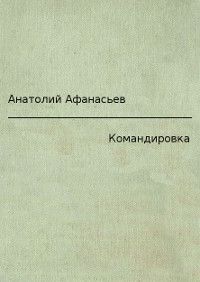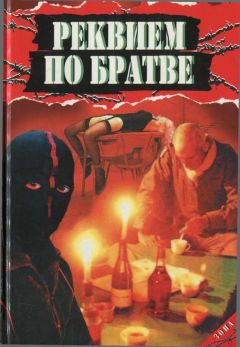Анатолий Афанасьев - Командировка
— Все? — спросил Перегудов таким тоном, точно его гортань оказалась заключенной в консервную банку.
— Пожалуй, да.
— Жаждете крови, Семенов? А не боитесь, что ваша прольется тоже?
— Я не хочу быть пешкой, как Прохоров. Не хочу быть пешкой, как Шутов, Иванов, Давыдюк и еще множество других. Не хочу, чтобы люди были пешками в производственном процессе. Это так просто понять. Неужели нет, Владлен Осипович?
Комната стала тесна Перегудову. Нервическими движениями он отмахивал невидимых мух от своих щек.
— Вам предпочтительней иметь вместо пешек — обвиняемых? Не хотелось бы мне оказаться на скамье подсудимых, где вы будете прокурором. К счастью, до этого не дойдет, уверяю вас.
Я видел перед собой не гнев, не раздражение, а замороженную брезгливость. Битюгов инстинктивно встал и отодвинул себя к окну, чтобы нам было просторней разговаривать. Но мы–то уже не разговаривали, а лаялись, повизгивали.
— Я не судья, а сотрудник, старающийся честно выполнить оперативное задание института. И вы не король, а тоже сотрудник этого института.
— Который по ошибке доверил вам ответственное поручение.
— Который думает, что может отделить человеческое от производственного.
— Кто дал вам право?! Кто дал вам право вставлять палки в колеса… разработчикам, каждого из которых вы ногтя не стоите, вы…
— Право голоса мне дала Конституция.
Перегудов отмахнул от себя всех мух, которых не было в кабинете, и начал давить несуществующих мошек на стекле письменного стола. Передавив с десяток, он устало поинтересовался:
— Что вы намерены предпринять?
— Сегодня составлю докладную, а завтра пойду с ней к директору. Потом выше, если окажется, что он разделяет вашу точку зрения.
— Дойдете? Не споткнетесь?
— Надеюсь дойти.
— Хорошо, ступайте, — он сделал героическую попытку дружески улыбнуться. — И все–таки, когда составите докладную, загляните ко мне еще раз.
— Завтра?
— Хоть через год. Хоть через сто лет.
Битюгов стоял спиной к нам, разглядывал пейзаж за окном. Две трубы и водонапорная башня так его заинтересовали, что он, видно было, готов простоять у окна до поздней ночи. Я вышел молча, таща за собой, как кандалы, прощально–дружеский взгляд Перегудова.
Сердце не болело, ничего не болело. Хорошо высказать начальству хотя бы часть того, что о нем думаешь. Плохо при этом сознавать себя выскочкой.
Мимо, низко нагнув голову, прошагал маленький Битюгов. Задержался все же, обернул ко мне пылающее лицо. Сказал четко, как воин:
— Если дело обстоит так, как вы излагаете, Виктор Андреевич, значит, вы правы. Я хочу, чтобы вы знали мое мнение.
— Правда иногда растягивается, как резиновая спираль, — ответил я.
— Не думаю так.
— Я так думаю. И все равно — спасибо!
— Пожалуйста.
Прямой, выше своего роста, он ухитрялся перешагивать вверх через две ступеньки.
Зачем же я настаиваю, оскорбляю человека, который, каков бы он ни был, много лет опекал меня. Отчего? Из чувства самоутверждения, что ли? Не знаю. Не только.
Может быть, потому, что мой отец умел отстаивать правду, какой бы сиюминутно невыгодной она ни была? Потому что понятия правды и выгоды несовместимы. Но разве никогда не кривил я душой, не отступал, не изворачивался? Ого–го! Бывало, сто раз на дню. В чем же дело?
Синяки, нанесенные яростной рукой Шутова, разуверившегося в людях, еще горели под моей кожей. Это да. Еще смотрели на меня весенние глаза милой Шурочки Порецкой, завороженной близкой тьмой бездны. Это да. Еще дрожала в воздухе слабая надежда окаянного Прохорова, протягивающего свой пакет, где разрывали бумагу чернила его будущего, которое должно оставаться у каждого человека. Это да. Но этого мало. Что же еще?
Или во мне говорит гаденькое желание доказать товарищу Перегудову, что я не только честнее его, но могу быть и сильнее? Или наступает срок, когда ты должен пойти на рожон, либо отступить в тень, откуда уже не вылезешь до конца дней, как крот из норы? Но я не чувствую никаких сроков… Нет, не чувствую.
Сигарета обожгла пальцы, я швырнул ее в урну и пошел в отдел. И только я вошел, как Коростельский позвал меня к телефону.
— Уже третий раз тебе звонят, — окликнул он.
Телефон у нас общий и стоит на столе у Окоемовой. Пока я шел к нему, щенячья радость клубилась во мне: запел бы, да не дал бог голоса. Все–таки позвонила! Ага! Все–таки… Это был Миша Воронов. Он интересовался моим самочувствием. Какого черта! Я сказал, что чувствую себя великолепно, а вот ему советовал бы подлечить мозги, пока не поздно. Он не принял этого тона, был необычайно деликатен.
— Что–то ты мне утром не глянулся, Витек… Какое у меня есть предложение хорошее, послушай. Давай вечерком в баньку? Как раньше. Попаримся, душа отмякнет…
— Я с тобой никуда не могу ходить, ты весь в рваных штанах.
— Залезем на полок, Витя. Очистимся, воспарим… Все пустое, все пустое, кроме баньки. Ты просто забыл, Витек. За делами забыл о главном. Так что — идем?
— Сегодня не могу, занят сегодня.
— Давай в субботу.
— Созвонимся…
Повесив трубку, я спросил у Коростельского, кто звонил первые два раза — мужчина или женщина.
Мужчина, конечно. Наталья не звонила. Ее упрямство походило на тучу. На большую черную осеннюю тучу, которую никакой ветер не в силах сдуть с неба.
До обеда я составлял докладную директору, увлекся, отвлекся, только вздрагивал при каждом звонке. Сначала у меня получилось шесть страничек, где я довольно подробно и живописно описал свои приключения в Н. Затем ужал текст до полутора страничек, оставив суть дела, переписав в столбик фамилии тех, кто может подтвердить (готов ли?) мои выводы. Никаких эмоций, ни единого восклицательного знака, но в подтекст удалось хитро вогнать мысль о необходимости срочной официальной рекламации. Перечитав, я остался доволен. Убрал еще несколько лишних придаточных предложений. Сам перепечатал на машинке (первую страничку на нашем фирменном бланке). Проставил число и расписался. Дал оценить свой труд Коростельскому и Окоемовой. Оба сказали, что здорово, и в один голос посоветовали порвать докладную, а клочки сжечь. «Почему?» — «Потому что, обращаясь с этим к директору через голову Перегудова, ты тем самым подписываешь заявление об уходе по собственному желанию». — «Я Перегудова предупредил». — «Ничего не значит». Я видел, оба желают мне добра, и был им благодарен за это.
Обедать я не пошел. Как только комната опустела, сел к телефону и набрал Наташин номер. Занято. Значит, она дома.
Ни к селу ни к городу я вдруг вспомнил, что заболела Мария Алексеевна. Об этом час назад во всеуслышание рассказывала Кира Михайловна, причем с такими нотками, словно Кондакова не просто заболела, а решила по примеру жен великих владык уйти следом за Анжеловым. Набрал номер Наташи, она ответила.
— Здравствуй, Наташа. Это я.
— Здравствуй, Виктор.
— Наталья, нам надо встретиться и поговорить…
Чуткое молчание.
— Откуда ты знаешь про Каховского?
— Это не телефонный разговор. Неужели не понимаешь?
— Витя, милый, все ведь теперь бесполезно.
Слово «милый» прозвучало как обращение по имени отчеству.
— Бесполезно или нет, а мне надо с тобой поговорить. Кое–что передать. Я тебе привез подарок. Куда его деть?
— Подари другой своей девушке.
— У меня нет других девушек. Ты это прекрасно знаешь.
— Витя, мне пора бежать на прием.
— Когда мы встретимся?.. Я не буду к тебе приставать. Давай вечером у меня? Годится?
Наташа издала странное междометие, похожее на клекот чайки.
— Только не у тебя и не сегодня.
Я легко согласился. Я уже решил, что надо делать.
— Хорошо, когда?
— Ну… может быть… ах, зачем все это. Ну, позвони во вторник.
— Утром?
— Пусть утром.
— До вторника. Целую тебя, любимая.
Раньше я отпрашивался всегда у Анжелова. Теперь у него не отпросишься. Номинально я подчинялся начальнику лаборатории Перфильеву. Его обнаружил в столовой. Он пил компот и жевал творожный сочник. На мою просьбу уйти с обеда в городскую библиотеку он ответил энергичным кивком.
Я вернулся в отдел за портфелем и ушел скрытно, ни с кем не попрощавшись. В поликлинику явился около четырех. Перед тем забежал домой и захватил коробку с платком и деньжат. Еще на всякий случай наспех прибрал на кухне, в комнатах — подмел и вынес помойное ведро.
Около кабинета Наташи небольшая очередь: пять человек. Четыре женщины и мужчина, который мне не понравился: уж слишком красив, и глазами шарит беспокойно. Симулянт, сразу же видно. Но Наталья даст ему больничный. Она всем дает больничные. Кроме пьяных. Если является на прием пьяный (такое, кстати, случается нередко), она выпроваживает его из кабинета с угрозами. Одному водителю автобуса даже написала на работу, а потом боялась, что тот ее подловит как–нибудь вечерком и пристукнет. Милое добросовестное дитя. Перед моим платком она не устоит, должна смягчиться. Кто же устоит перед таким платком. Я уж и не знаю — кто. Разве совсем бесчувственное и оголтелое сердце. Очень я рассчитывал на свой платок. Представлял, как разверну его в гордом и обиженном молчании, как она всплеснет руками, как меня обнимет и скажет: «Ладно, Витя, чего уж там». И я скажу: «Конечно, чего уж теперь». Мы пойдем ко мне и будем жить у меня. Мы поженимся, я удочерю Леночку, а потом Наташа родит сына. Смешная она будет ходить с круглым животом.