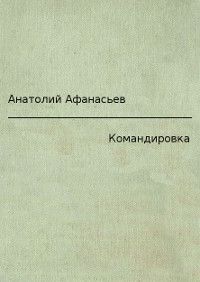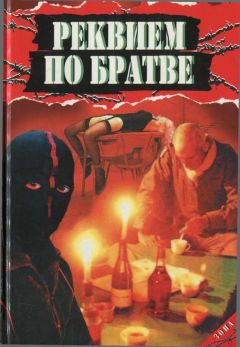Анатолий Афанасьев - Командировка
До шести, до конца приема, оставалось полчаса, когда она зачем–то вышла из кабинета, увидела меня, ничего не сказала и прошла мимо. Я не сразу как–то смог встать. Вообще пригрелся на стуле: тепло, уютно, пахнет мазью Вишневского. Но встал, догнал ее у лифта. Бледное лицо, прозрачная кожа, тугой белоснежный халат, фонендоскоп на груди, как брошь, — вот она Наталья.
— Целую вечность мы не виделись, правда?
— Ты давно тут сидишь?
— Часик всего.
— Будешь ждать?
— Конечно.
Хоть бы одну искру я увидел, хоть промельк волнения: ничего.
— Не ходи за мной.
Я вернулся на свой стул. Минут через пять она прошла обратно в кабинет. Мужчина — красавец с шустрым взглядом — пробыл у нее дольше обычного. Выскочил довольный: в руке больничный. Ну, рожа симулянтская, нет на тебя карболки.
Трудно это объяснить, но в те минуты, в ожидании у кабинета, где хозяйничала Наталья, я чувствовал себя таким счастливым и безмятежным, как, пожалуй, никогда прежде. Несколько часов назад я чуть не лопался от раздражения: полно неприятностей на работе, Наташа неизвестно почему не открыла дверь и только что разговаривала со мной, как с посторонним; с утра я не держал крошки во рту — и вот на тебе: сижу, точно ребенок в теплой ванне, окруженный блестящими игрушками, и от радости пускаю слюну. Я на вершине блаженства, таю, и пушистый платок нежит мои руки через дно берестяного туеска. Около шести появился очень больной человек. Его, селедкообразного пожилого мужчину, вела под руку старушенция в черном платке. И как только она его ввела, все помещение заполнилось чиханием, кашлем, насморком и одышкой. А мне стало еще лучше, чем было. Очень больной человек упал на стул прямо напротив меня и, с усилием прорываясь сквозь немыслимо скрипучие, перхающие, удушливые звуки, спросил:
— Вы чему улыбаетесь, юноша? Вы разве не видите, в каком я состоянии? Вам следует пропустить меня помимо очереди.
— Пропускаю охотно, — сказал я. — Улыбаюсь же я потому, что недавно оправился от еще худшего гриппа. Врачи уж было меня похоронили.
Старушенция увела его в кабинет, он пробыл там с полчаса, и все время казалось, что за закрытой дверью происходит ведьмин шабаш. Я трясся от бессмысленного, беззвучного хохота.
Через минуту после ухода этого больного вышла и Наташа. Увидев меня, все еще сотрясаемого остатками смеха, спросила подозрительно:
— Успел набраться?
— Нет. Старикан уморительный. Красиво болеет.
— У него аллергия. Ничего смешного.
На улице накрапывал дождик, мелкий и липкий, Наталья беспомощно оглядывалась: у нее не было зонта.
— Хочешь, побудь здесь минут двадцать. Я сбегаю за плащом.
— Перестань паясничать. Говори, что ты хотел?
— Не здесь же…
— Почему бы и нет?
— Наталья, бросать бывшего возлюбленного тоже надо со вкусом. Правда, у нас в России, я знаю, принято напоследок побольнее хряснуть в ухо.
Она подняла ладошку вверх и решительно шагнула с крыльца. Дождик и впрямь был еле ощутимый, бутафорский. Наталья двигалась целеустремленно в сторону метро. Я любовался ею: ее походкой, строгим, надутым профилем; как мог я безумствовать, уходить от нее, что и кому пытался доказать? Умнее было лупить кулаками собственное отражение в зеркале.
Я так долго жил один, без любви, без сильных привязанностей, и вот появилась Наташа, а я ее сразу не признал, свое спасение не разглядел. Ничего, теперь все пойдет по–иному.
— Куда ты так спешишь, Наташа?
— Я еду к подруге. Можешь меня проводить немного, если хочешь.
Месяц назад она бы ни за что не позволила себе такой тон. Сколько в ней все–таки силы и упорства, которых я тоже не удосужился заметить. Да и что я мог заметить, чурбан, упоенный единственно своими настроениями. Я чуть не потерял ее, чуть не потерял навсегда.
— Талочка, — сказал я. — У меня в животе солдаты стреляют из ружей. Не завтракал и не обедал. Давай перекусим где–нибудь. Это займет не больше часа, с дорогой вместе. А потом поедешь к подруге.
Видел, как борются в ней противоречивые чувства.
Она не хотела уступать, но и отказать не могла, потому что я говорил, как умирал: тихо, печально, безнадежно.
— Ни к чему все это, — сказала она.
— Другие же все люди питаются.
— Ах, ну все равно. Даже так лучше.
Мы зашли в одно из типовых общепитовских заведений, коих за последние годы развелось в Москве видимо–невидимо, особенно в новых районах. Это заведение представляло собой комплекс из столовой, называвшейся «кафе», и бара. Главная отличительная черта комплекса — полнейшее отсутствие индивидуальности. И в этом есть своя прелесть, так как, побывав в одной такой «столовой–баре», во всех других вы уже будете чувствовать себя завсегдатаем.
Там, куда мы пришли, слева, из столовой, едко и мощно пахло подгорелыми щами, а справа, из бара, доносились чарующие звуки устаревших битлов. Мы стояли посередине перед высоким зеркалом и дверью, на которую почему–то были наклеены сразу и женская и мужская фигуры.
— Направо пойти — живу не быть, налево пойти — голову сложить! — козырнул я знанием фольклора. — Ты хочешь в бар, родная?
— Нет.
— Напрасно. Шампань–коблер твой любимый, приятная музыка, полумрак…
Она покосилась на свои часики.
— Хорошо, — вздохнул я. — Пойдем туда, откуда так сладостно пахнет горячими яствами.
Наташа отказалась есть что–либо, я на свой риск взял ей стакан сока и порцию осетрины, себе выбил гороховый суп, бифштекс, салат и компот. Не знаю, зачем это сделал: от вида пищи меня сразу начало подташнивать. Народу было немного (в этих столовых по вечерам вообще редко бывают едоки, что свидетельствует о большом запасе здравомыслия у москвичей), мы сели за столик в углу. Туесок с платком я положил рядом с бифштексом и, начав хлебать суп, небрежно толкнул его к Наташе:
— Это тебе.
Она скучающе разглядывала пейзажи на стенах, не прикасаясь ни к соку, ни к осетрине, ни к подарку.
Весь ее вид выражал нетерпение. У меня горло сжималось от любви к ней, и к ее поведению, и к тому, как отчужденно она держится, и как изредка рассеянно соскальзывает на меня взглядом, точно я один из настенных пейзажей.
— Должен заметить, Наташа, — сказал я, — что, как моей будущей супруге, тебе бы следовало вести себя приветливее. Ты посмотри, посмотри, какой я тебе платок отхватил.
— Откуда ты знаешь про Каховского?
— Твой нынешний временный муж мне выдал сию тайну.
Она удивилась, но не так сильно, как можно было ожидать.
— Где ты его видел?
— Он приезжал ко мне в Н. Мы проговорили с ним всю ночь и пришли к единодушному мнению, что я обязан на тебе жениться. После всего, что было.
— Ой! — сморщилась она. — С тобой говорить, как с глухим. Что он сказал про Каховского?
— Всю правду. Что ты любила его, а потом полюбила меня. Он ничего не утаил. Видимо, принял меня за священника.
— Зачем он к тебе приезжал?
— Это ты его посылала.
— Я?
— Да, он так сказал. Дала, говорит, мне денег на дорогу и послала.
— Витя, я пойду. До свидания.
Я успел схватить ее за руку, дернул на стул, суп расплескался и потек по клеенке серыми лужицами.
В глазах ее блеснуло злое, отвратительное выражение.
— На это ты способен, я знаю.
На мгновение я потерял выдержку, заспешил, стал развязывать тесемки туеска. Платок высветился из коробочки серо–серебристыми заячьими ушками. Наташа смотрела на меня с жалостью, как на инвалида. Может быть, я и был инвалидом.
— Витя, мне не надо от тебя подарков. Мне не надо от тебя ничего. Неужели ты не понял?
— Посмотри, какой красивый платок!
— Платок безвкусный… Ешь быстрее, я спешу.
Я глотал ложку за ложкой под ее пристально–изучающим взглядом.
— Витя! — сказала она вдруг потеплевшим голосом. — Мне не хочется делать тебе больно, но пойми же, все кончено. Да и не было ничего. Конечно, я сама дала тебе повод думать иначе. Пожалуйста, прости меня за это.
Я отставил тарелки, зашнуровал туесок.
— Пошли!
Дождик истощился, смеркалось. Было свежо, и земля слегка покачивалась под ногами.
— Посидим немного?
Сели на скамеечку на детской площадке. Я закурил. Все мои ощущения сделались расплывчатыми, как сумерки.
— Что с тобой творится, Ната, я не пойму. Мы жили вместе, обнимались, любили друг друга. Это было. А ты говоришь — не было… Я всегда догадывался, что ты сумасшедшая. Сейчас, по–моему, у тебя обострение. Но все пройдет. Ты увидишь: я буду терпеливым и внимательным мужем. Николай Петрович…
— Витя, ты помнишь, как я быстро к тебе пришла, сама. У меня была тоска, страшная тоска. Теперь тоска прошла, и я хочу быть одна. Повторяю, я виновата перед тобой…
— Ничему не верю. Ты не понимаешь, что говоришь.
Сумерки постепенно, сантиметр за сантиметром, отдаляли ее от меня, и придвинуться к ней я не мог. От нее исходило тепло и очарование непостижимости.
— По–настоящему я всегда любила, и теперь люблю, только своего мужа. Я не хотела тебе говорить, чтобы не расстраивать еще больше. Но это так. Ты же видел его. Его не любить невозможно.