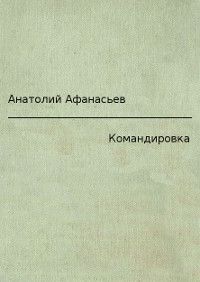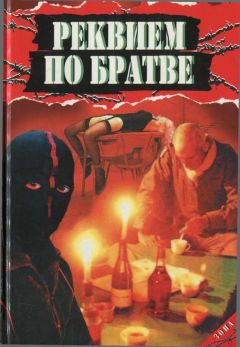Анатолий Афанасьев - Командировка
— Посидим немного?
Сели на скамеечку на детской площадке. Я закурил. Все мои ощущения сделались расплывчатыми, как сумерки.
— Что с тобой творится, Ната, я не пойму. Мы жили вместе, обнимались, любили друг друга. Это было. А ты говоришь — не было… Я всегда догадывался, что ты сумасшедшая. Сейчас, по–моему, у тебя обострение. Но все пройдет. Ты увидишь: я буду терпеливым и внимательным мужем. Николай Петрович…
— Витя, ты помнишь, как я быстро к тебе пришла, сама. У меня была тоска, страшная тоска. Теперь тоска прошла, и я хочу быть одна. Повторяю, я виновата перед тобой…
— Ничему не верю. Ты не понимаешь, что говоришь.
Сумерки постепенно, сантиметр за сантиметром, отдаляли ее от меня, и придвинуться к ней я не мог. От нее исходило тепло и очарование непостижимости.
— По–настоящему я всегда любила, и теперь люблю, только своего мужа. Я не хотела тебе говорить, чтобы не расстраивать еще больше. Но это так. Ты же видел его. Его не любить невозможно.
— Ты его жалела, он сам сказал.
Прожурчал ее грудной, струящийся смех.
— Его жалеть? Все равно что жалеть бога.
— Женщины способны на это.
— Может быть, но только не я.
— А Каховского ты не любила?
— Наверное, нет.
— И меня?
— Тебя уж точно — нет.
Если у меня и оставалось какое–то желание, так это встать поудобнее, навалиться на нее и задушить. Проделать все быстренько, чтобы ей не было слишком больно. Это было даже не желание, а жгучая потребность.
— Когда я буду умирать, — сказал я, — то и тогда буду тебя ненавидеть.
— Вот и отлично.
Вставая, Наташа слегка, по–дружески, коснулась моей руки: попрощалась. Я устремился за ней.
— Провожу тебя к подруге.
— Это далеко.
— Тем более.
Она пожала плечами. В метро у меня не оказалось пятака, а у Натальи был проездной. Пока я разменивал двухгривенный в автомате, она уже спускалась по эскалатору. Даже не оглянулась, где я. Но я догнал ее, догнал. Несколько остановок мы проехали молча.
— Значит, ты меня никогда не любила?
— Нет.
Упустив момент задушить ее на укромной скамейке, теперь я, конечно, не мог этого сделать на виду у пассажиров.
— Тебе не надоело ломать комедию? — спросил я.
— Я не ломаю комедию, Витя. Я говорю тебе правду, пойми… И говори тише, пожалуйста.
На «Площади Ногина» сделали пересадку. Я брел за ней как в тумане. Видел только ее светлый жакет, бежевую юбку, прядь волос, прыгающую над маленьким розовым ухом. То и дело натыкался на людей.
Главное, я не мог представить, как вернусь домой и что там буду делать. В моей голове жужжал рой пчел. Некоторые, побойчей, пытались выпрыгнуть через уши.
— У тебя так бывает, Ната? — спросил я. — Как будто в голове пчелы?
— Ну–ка, тряхни головой резко.
Я тряхнул, щелкнув зубами.
— Есть такие беленькие искорки?
— Есть.
— Это давление. Тебе надо побыстрее домой, выпить чаю и лечь в постель.
— Вот у твоей подруги и лягу на раскладушке.
Мы подъезжали к «Текстильщикам».
— Я тебя не приглашаю к подруге, Витя.
— Как же клятва Гиппократа? Я болен, ты должна мне помочь. Ты врач.
На остановке вышли. Наталья глядела на меня в раздумье. Я с безразличным видом разглядывал колонны. Потом сказал:
— Очень плохо. Чувствую, что сейчас упаду на каменный пол. Я ведь много ночей почти не спал. Все думал о тебе. Как устроимся, как будем жить. Я бы хотел завести второго ребенка не откладывая. Чего ждать? Мы уже не молоды. Верно?
Наконец–то я вывел ее из себя. Глаза ее сузились, и она покраснела.
— Юродивый!
Тут как раз подоспел поезд, идущий в мою обратную сторону. Задыхаясь, я пересек долгое пространство, по пути швырнул туесок с платком в урну и еще успел втиснуться в зашипевшие двери. Оглянувшись, еще раз увидел ее светлый жакет. Кажется, и лицо увидел, прекрасное, обыкновенное, святое. Она стояла у колонны…
«Нет! — подумал я. — Нет! Нет!»
Закрыв глаза я тщательно перебирал весь разговор: каждое ее слово, каждая интонация источали отраву. Эта отрава была чудодейственным напитком, который я пил, все более опьяняясь. Наталья меня не провела, нет. Так просто меня не проведешь. Хорош бы я был, если бы меня могла обвести вокруг пальца такая простушка, как наш участковый врач.
«Ты думала меня провести, Натали? Ха–ха–ха! А у тебя ничего и не вышло. Как маленькая! Даже стыдно слушать. Мужа люблю, бога люблю. Люби себе на здоровье. Но меня–то зачем обманывать? Я же еще тебе не муж. Вот поженимся, тогда другое дело. Но сейчас–то зачем?.. Наташа! Запомни! Когда человек не любит, он не умеет ужалить каждым словом. Нипочем. Так разве, случайно найдет два–три слабых места, но не каждым же словом. Поняла?»
Вдруг, открыв на мгновение глаза, я заметил, соседи почему–то приглядываются ко мне, а некоторые пытаются отодвинуться, и сообразил, что говорю вслух. Громко к тому же. Встал, на остановке вышел, дождался следующего поезда и поехал дальше.
Дома, только отпер дверь, звонок телефона, бросился к нему и на ходу спохватился: нет, сегодня она не позвонит. Хотя почему — нет? Она же, может быть, поверила, как я болен. Схватил трубку — Мишкино добродушное «бу–бу–бу». Чуть не разбил аппарат, но сдержал себя.
— Чего тебе?
— Витя, Витя, ты как? Жив, здоров?
— Ты что ко мне привязался, балда? Я спать хочу, спать!
— Так рано? Витя, с тобой в самом деле все в порядке?
Я повесил трубку.
28 июля. Пятница
Кира Михайловна, будь она неладна, все утро утешала по телефону Марию Алексеевну. А ведь мне каждую минуту могла позвонить Наташа. В комнате никто не работал: волей–неволей все прислушивались к зычной скороговорке Селезневой, ниспосланной в наш отдел не иначе как самим сатаной. Обычно, правда, ей не давали размахнуться на всю катушку, но сегодня она разговаривала по слишком деликатному поводу, чтобы кто–то рискнул ее одернуть. На прием к директору я записался у секретарши на одиннадцать тридцать, перед тем надо было, как договорились, заглянуть к Перегудову. Видимо, утренний обмен приветствиями с Наташей не состоится.
Вот как Кира Михайловна утешала подругу в ее большом человеческом горе:
— …И было. А что?.. Думала, сама сойду в скорбную могилу. Нет, нет, нет. Дети, дорогая моя, дети и только дети… Они — всякие, хорошие и плохие… Я уж знаю, Маша. Ты не мне говори… Которым крест нести, так нам, простым бабам… не им, нет… Забудь и не плачь… Он никогда. А я бы на таком месте ни за что не согласилась. Куда там. Это же все равно дрова ножом рубить… В Индии береза, и у нас береза. Не сто́ит своей всей жизни… сроки и сроки. Только тогда начинаем понимать и сочувствовать, когда теряем бесконечно дорогое…
Долго слушать Киру Михайловну опасно. В ее суматошном словоизвержении есть что–то особенное: чем больше вслушиваешься, тем томительнее начинает проникать в мозг некий мистический символ. Дух потустороннего присутствия. Ведь вот сейчас, кажется, уловил какую–то нить, какой–то общий смысл, и вдруг — он исчез, выскользнул, растворился в новом потоке фраз, уже не несущих вообще никакого смысла, но знакомых, вызывающих болезненную мешанину ассоциаций. Иголка, которую осторожненько, но упорно проталкивают тебе под кожу, почти без боли, и всетаки если долго терпеть, забыться, не стряхнуть разом оцепенение — иголка неминуемо вопьется в самый мозжечок.
Коростельский. Окоемова, Лазарев, Печенкин и другие слабонервные сотрудники давно ушли в коридор, а я все что–то сидел, открыв рот, и слушал, завороженный. Дело в том, что ровное и страшное нервное напряжение, в каком я сейчас находился, сталкиваясь с бессмысленным гудением Киры Михайловны, как бы получало исход, ослабевало, вытягивалось в пустоту.
Не знаю, как Марии Алексеевне, а мне действительно было легче от утешений нашей дьяволицы, и я вишел из комнаты только когда она повесила трубку и сказала: «У–у–ф!»
Товарищи окружили меня.
— Ага, не выдержал, ага! — приплясывала несолидно Окоемова, обернулась к Коростельскому заговорщицки. — А ты говорил: Семенов все выдержит. Не заблуждайся в следующий раз. Героев среди нас нет. Лазарев и Печенкин, суровые мужики, стояли плечом к плечу, омраченные тяжелой думой.
— Может, ей в чай чего подсыпать? — сказал Лазарев.
— Ее колом надо. Колом по башке! — ответил Печенкин, человек близкий к природе, охотник и рыболов.
— А ты куда, Витя? — спросил Коростельский.
— Я к начальству.
— Зачастил, зачастил ты что–то…
— Ой, что будет! Ой, что будет! — подхватила Окоемова.
Судя по всему, роман их развивался стремительно и дошел до стадии, когда слова одного кажутся другому исполненными глубокого, обращенного только к нему смысла.
К Перегудову я вошел с забавным чувством своей неожиданной значительности. Владлен Осипович разговаривал по телефону, увидев меня, приветливо махнул рукой: проходи, мол, садись. И даже скривился на трубку — надоели, черти. Ничего от вчерашней ярости и несдержанности. Кончив телефонный разговор, стал расспрашивать меня о каком–то давнем деле, пустяковом. Мне для того, чтобы ответить, пришлось напрягать память, и все я пытался свернуть Перегудова на сегодняшнее, актуальное. Но он не давал передышки, вопросы сыпались из него, как горох из прорвавшегося пакета. Да все какие–то малозначительные, затейливые вопросики.