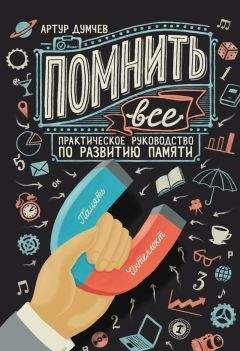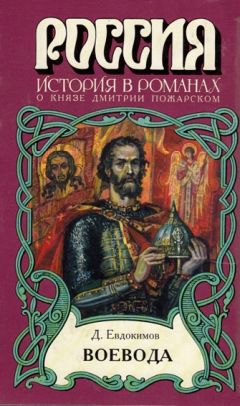Николай Евдокимов - У памяти свои законы
Отец не понимал такой красоты: пятнадцатилетние девочки замазывали свое естество, подводили брови, удлиняли ресницы и даже иногда красили волосы из натурального черного в искусственный рыжий и из натурального рыжего в искусственный черный — все наоборот, лишь бы подальше от своей истинной прелести, данной им от рождения природой. Отцу не то чтобы неприятно было смотреть на искусственную Нюрку, но стыдно чуть-чуть. От нее даже бабьим потом не пахло, а деликатно несло какими-то одеколонами. Он уже не вразумлял Нюрку, изредка только поворчит для порядка, и все. Да и можно ли вразумить в такой обстановке, когда вокруг, и на улицах, и в школе, и в общественных местах — повсюду особы женского пола от мала до велика на один манер?
Нюрка училась без больших успехов, но умственность проявляла огромную, понимая о себе гораздо преувеличеннее, чем имела знаний. Она нахваталась в школе образования, умела бойко, по-современному молоть языком, оспаривала старших, а уж отцовского философствования не принимала совсем, считая его мысли никчемушным домашним разглагольствованием, лишенным смысла и научной основы. Отец, не желая слышать насмешек родной дочери, все реже делился с нею своими размышлениями.
Они отдалялись друг от друга, ища собеседников и единомышленников на стороне. Нюрка (втайне, правда, еще не имея в виду конкретную личность) мечтала о предстоящей любви, читала не рекомендуемые для ее возраста книги писателя Мопассана и особенно книгу под названием «Декамерон». Нюрка жила ожиданием счастливого будущего, а отец в своем будущем не видел уже никакого счастья и потому упорно смотрел в прошлое, которое с годами казалось ему все интереснее, все значительнее и все прекраснее.
Некоторое утешение он находил в общении с Борисом Гавриловичем, одиноким соседом-бухгалтером, который хоть и происходил из деревни, но был интеллигентного воспитания и значительно старше Нюркиного отца возрастом. Интеллигентность не мешала ему проявлять понимание многих проблем и вопросов.
Однажды ночью отец проснулся оттого, что вдруг во сне учуял знакомый запах покойной жены. Не зажигая света, чтобы не ослепить спящую Нюрку, он лежал во тьме с бьющимся сердцем и слушал дух Прасковьи Ильинишны.
Уже много времени прошло, как она умерла, но он хорошо помнил совсем не забытый им ее запах. Пахло ею, словно стояла она рядышком во тьме, затаившись, живая и здоровая, и наблюдала за действиями любимого супруга или, может, хотела учудить шутку: запряталась за шкаф, ищите, дескать, меня. Она любила такую игру.
Пахло ею, Прасковьей Ильинишной. Ее телом. Живым, доподлинным ее запахом. Пахло так, как пахла она живая, разопревшая от скорой ходьбы, от жаркой работы или истомившаяся ночной духотой под одеялом.
Отец протянул руку и нащупал на углу шифоньера на гвоздике байковый халат Прасковьи Ильинишны, который вчера повесила сюда Нюрка, разбирая старые вещи. Он охнул и уткнулся в него лицом.
— Пап, — спросила проснувшаяся Нюрка, — что ты?
— Ничего. — Отец задержал дыхание, чтоб не подпустить к горлу слезы, но понял, что не осилит себя, и, сорвав с гвоздя халат, натянув в коридоре штаны, ушел во двор.
Во дворе синела луна. Огромная. Во все небо. Во весь клочок этого неба, висящего над двором. Круглая и гладкая, как шарикоподшипник. Луна — дура. Равнодушная к земным несчастьям, к людским страданиям.
Отец сел на скамейку под тополем, прижал к лицу халат Прасковьи Ильинишны и заплакал.
— Ты была прекрасна, Паня, как трава, как дерево. Паня, Панечка. Прасковьюшка моя. Прости меня, я пустой без тебя, одинокий, ненужный человек.
Халат Прасковьи Ильинишны пах ее потом, родным дыханием, бесплотной ее плотью, он хранил воспоминание о своей бывшей хозяйке с такой же ясностью и верностью, как и сам Панин муж, ее верный страдающий супруг.
Нюрка вышла из квартиры во двор, села рядом с отцом, поняв его переживания.
— Не надо, папа...
Он утер мокрое лицо, оказал виновато:
— Прости.
— Спать пойдем. Пожалуйста...
— Отоспал я свое, доченька... Полжизни отсопел. Закончились мои сны...
— Пойдем...
— Пойдем... Мамку мне жалко, Нюрка. Хорошая у нас была мамка. Душевная, красивая, — сказал он и отвернул от дочери лицо, заглушая новые слезы. Мертвая Прасковья Ильинишна, может быть, еще сильнее, чем живая, привязывала его печалью, жалостью, нежной нежностью и ощущением неискупленной вины за то, что оторвал он ее от родного гнезда, от простора полей, от истинного дела.
— Не понять тебе, Нюрка, моих пережитков... Из-за меня мамка сгубила тут жизнь. Иди, ну иди, доченька, я отдохну один.
Он уткнул лицо в материн халат и затих. Нюрка посидела рядом, замерзла и ушла...
А утром отец объявил свое категорическое и твердое решение — он соскучился жить бесполезной городской жизнью и намерен возвратиться в деревню, в родную избу.
— Ой, нет, папа, — взмолилась испуганная Нюрка, — я не поеду, я погибну в деревне с тоски, я умру там, не надо.
— Не балабонь, — строго сказал отец, — не бывать этому, выкинь дурь из головы и собирайся со спокойной душой.
— Нет, батя, — утерев рукавом слезы, сказала Нюрка самостоятельным голосом, — я уже взрослая, я имею свой паспорт, я по закону теперь неподвластна родительской воле. Я останусь тут.
И она осталась продолжать свою жизнь в городе. Отец же уехал в родную деревню заглаживать вину перед обиженной им землей.
Фактически Нюрка оказалась теперь одна, сама себе хозяйка и руководительница, ибо ждать помощи от отца ей уже не приходилось. Она решила поступить на работу, потому что ей нужно было на что-то жить, чем-то питаться, насыщая голодный желудок, а денег у нее не имелось, за исключением небольшой суммы, оставленной отцом из последних сбережений. Нюрка дотянула до конца восьмого класса и покинула школу, прежних подруг и учителей, забыв к ним обиды, сохранив в сердце только благодарность и уважение.
По молодости и веселости характера Нюрка не могла и не хотела жить в тихом уединении. Она зазывала к себе друзей и знакомых на веселые вечеринки с танцами под звуки пластинок, проигрываемых на радиоле. Подруги и знакомые засиживались до позднего часа, производя в квартире шум, ненужный беспорядок и забывая про экономию электричества.
Сосед Борис Гаврилович отныне, после отъезда отца, считал себя ответственным за Нюркину судьбу, он хотел поначалу призвать ее к тишине, но не стал, ибо понял, что молодому надобно жить и веселиться в веселой компании. Он любил и даже уважал Нюрку и вопреки мнению ее отца не считал пустышкой. Он замечал в ней иные, привлекательные черты, находил, что она была девушкой душевной, ищущей в жизни чистоты, справедливости и своей полезности.
Нюрка поступила работать в приемный пункт № 5 городской прачечной.
Работа была плохая, нездоровая — в приемном отделении стоял спертый, нечистый воздух, от белья пахло грязью, людским потом и всякими другими запахами, свойственными человеку. Нюрка брезгливо сортировала белье — простыни к простыням, кальсоны к кальсонам, — вызывая своей медлительностью недовольство заведующей. Но однажды Нюрка поймала себя на том, что сидит на груде белья, держит немытыми руками булку с маслом, весело жует и точит лясы со своими сослуживцами. Она поняла, что привыкает к этой обстановке, к тому привыкает, к чему у нее нет никакого желания привыкать, испугалась, уволилась из приемного пункта и поступила кондуктором трамвая.
Поначалу в городском трамвае было не скучно и даже интересно — разные люди, разные характеры, разные разговоры. Благодаря этим разговорам Нюрка была в курсе мировой политики, новостей зарубежного радио, наличия товаров в магазинах и вообще всяких городских происшествий.
Но со временем ей стали надоедать и эти разговоры, которые только засоряли мозги, и пассажиры, торопящиеся по своим делам. Дни были похожи один на другой. Трамвай, звеня, катился по рельсам все по одному и тому же маршруту, по одним и тем же улицам, развозя одних и тех же людей. Однообразие трамвайной жизни утомляло Нюрку. Эта работа разонравилась ей, ибо ничего не давала, а только отнимала душевные и физические силы.
Нюрка перезимовала в качестве трамвайного кондуктора холодную зиму, а весной поступила на железную дорогу проводником пассажирского вагона, радуясь тому, что будет ездить по разным городам, наслаждаться видами новых, незнакомых земель и расширять тем самым свой географический кругозор.
Борис Гаврилович одобрил ее решение и даже пошел провожать в первый рейс в далекую Сибирь. Нюрка уехала, а Борис Гаврилович, оставшись один, понял вдруг, что прилепился сердцем к этой девчонке, что без нее и ее шума ему и одиноко, и скучно, и нудно со своей старостью и своими возрастными болезнями. В пустой квартире его снова стали одолевать знакомые печальные сны, особенно после того, как он ушел на пенсию.