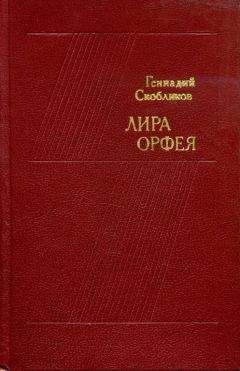Геннадий Скобликов - Старослободские повести
Особенно любила Прасковья весенние праздники. На вербное оденется по-праздничному, сходит с бабами в лес, принесет домой вербы и пучок непременно повесит в коровьей закутке. А когда настанет Егорий и пастух в первый раз гонит скотину, мать, как и многие старые люди, этим пучком вербы корову со двора выгонит, до конца деревни проводит стадо, а пучок назад принесет, у коровы в закутке повесит: чтоб, значит, корова все лето здорова была и из стада домой приходила. И когда мать умерла, Варвара тоже не нарушала этот обычай: каждую весну выгоняла корову в первый день выпаса ветками вербы.
В жнитву мать всегда примечала последний связанный сноп, и его не молотили. Мать уносила этот сноп в чулан, где в закроме у них хранился хлеб, пристраивала его в уголке над закромом, и он висел там до нового сева. Так, говорила она, делала бабка Евдокия, мать Прасковьи, так делала и она сама: без лишних разговоров снесет этот аккуратный крепкий снопик в чулан и хранит его там. «Весь век добрые люди так делают», — скажет. Да и после, когда рожь только на огороде сеяли, клочком, наберет пук и там же в чулане повесит, до новой жнитвы висел.
...Земля, хлеб, корова. Не помнила Варвара, чтоб мать хоть бы невзначай обмолвилась о них черным словом. Сама гнула спину на этой самой земле, каждая крошка хлеба доставалась трудом и потом, за той же коровой сколько забот... — а относилась к ним, будто была в вечном долгу и перед землей, и перед хлебом, и перед той же коровой. Земле и всему доброму, что растет на ней, она готова была молиться. «Земля-матушка, — скажет, — и носит нас, и кормит, и поит, и одевает. А умрет человек, она его на вечный покой к себе примет. Ты ее любишь, с охотой да добрым словом трудишься на ней — и она тебе добрым платит; а скажи о ней облыжное слово или подумай только — обидится она. Что б мы ни делали — она все знает, что б ни говорили — все она слышит. Плохого человека не полюбит, а за доброго заступится, хоть мы и не знаем об этом. Пословица недаром молвится: «Добра мать до своих детей, а земля-матушка — до всех добрых людей»...
В войну, когда пришла похоронная на отца, мать как-то сразу постарела. И часто стала рассказывать Варваре, как поженились они с ее отцом, как начали жить без своего угла и хозяйствовать без лошади. «Да был у нас с ним мир и лад, работы мы не боялись — вот и встали помаленьку на ноги: и хату поставили, и лошадь купили, и без куска не сидели, и по праздникам выходили не хуже других...»
Похоронную получили осенью, а весной, в самое половодье, умерла Прасковья. И вроде не болела она ничем таким, а после смерти отца сразу стала таять — и после рождества совсем слегла. Умерла она, как и жила, тихо и спокойно, и только жаловалась ей, Варваре, что вот не привела ей с отцом судьба лежать рядом в земле...
...И к безутешным слезам, какими не раз плакала ночами Варвара, этой ночью добавились слезы смиренной просветленности, сошедшей на нее при этих вот счастливых воспоминаниях о матери. И она благодарила нелегкую свою судьбу за то, что там, на их деревенском погосте, дети похоронят ее рядом с матерью... и уже век вечный будет она лежать рядом с Прасковьей.
II
Она помнила себя рано. И самое яркое первое видение себя одной — без матери и отца — приходилось на тот весенний день, когда светило солнце, цвели вишни, а она, Варя-Варюха, стояла на верхушке навозной кучи и сквозь красное стеклышко смотрела на мир.
...В коротком ситцевом платьице... кажется, василькового цвета, с короткими густыми темными волосами, темноглазая, босоногая и, наверняка, чумазая, как и любой, пусть даже самый ухоженный, крестьянский ребенок...
На куче коричневого перегноя темно-красным огнем вспыхнул осколок стекла. Скорее всего, той ночью был дождь, вымыл это стекло из-под перегнившего навоза, и вот оно горело теперь под солнцем на той навозной куче, что отец всегда складывал аккуратно в углу между коровьей закуткой и плетнем.
Да, ночью или рано утром точно был дождь, потому что всегда, когда Варваре вспоминался тот день, она и теперь будто видела, как от мокрого навоза, пригретого солнцем, поднимался желтоватый пахучий пар.
Утопая по щиколотки в мягком мокром перегное, она забралась на верхушку кучи. Темно-красным огнем полыхал маленький осколок разбитого пузырька. Стеклышко было выгнутое, сверху чисто вымытое, а снизу полное мокрой земли. Она очистила грязную сторону стеклышка (скорее всего, протерла его подолом платьица) и поднесла к глазам...
...И теперь, спустя сорок лет, она будто видела тот сказочный малиновый мир.
Солнце уже не ослепляло, и на него можно было смотреть, сколько захочешь: за стеклом оно было маленьким круглым ярко-малиновым блюдцем; и небо вокруг тоже малиновое, но гуще и темнее, чем солнце. И облака были малиновые — особенно помнились эти облака над горизонтом, похожие на города, — и казались куда красивее, чем если смотреть на них просто так. Она хорошо помнила, как подумалось ей тогда, если бы и ей, Варе, оказаться сейчас там, где эти облака, то и она стала б, конечно, малиновой — как и все остальное, на что смотрела она: соломенные крыши хат и сараев, их глиняные стены, плетни с кувшинами на колах, цветущие вишни в саду, длинные огороды и люди и лошади на них (как раз сажали картошку), макушки грушенок и дубов за огородами в засеках, а за засеками и еле видными ей крышами бывших за ними хат, где теперь колхозная база, — поля и далекая Кленовая роща, за которой опять начиналось небо.
Должно, она подивилась своему открытию, что мир так легко можно перекрасить. И, скорее всего, тут же пережила огорчение, потому что нельзя же ходить и жить со стеклышком у глаз, а без него все вокруг опять было простым и привычным.
В тени черного плетня густо росла мелкая зеленая крапива, злющая и пахучая, — из нее варят щи, — по ней, не боясь обжечься, ползали оранжевые божьи коровки. Варя осторожно сняла с опасного листка одну коровку и зажала ее в кулачке. Коровка, щекоча ладошку, долго ползала там, пока не нашла себе выхода между пальцами. Выползла, тут же выпустила лиловый хвостик, расправила крылышки и полетела.
Божья коровка,
Полети на небо —
Там твои детки
Кушают конфетки...
Она, Варя, доподлинно знала, что божьи коровки, а значит и их детки, живут на земле, вот тут, в их дворе, — и одновременно почти верила в слова своей песенки-причиталки: зачем-то хотелось, чтоб эти маленькие божьи коровки и в самом деле летали на небо.
Коровка улетела — кто знает! — может, и в самом деле к своим деткам; а маленькая Варя не захотела повторять то же самое с другой коровкой, стояла у плетня и придумывала, как занять себя. Ей было хорошо, но конечно же хотелось еще чего-то такого, чтоб было еще лучше, может, даже так, чтоб в один миг, сразу напиться всеми радостями жизни и мира, о которых она еще не могла думать, но чего и не могла не предощущать всем своим детским существом.
Две белогрудые ласточки вылетели из темной глубины сарая, скользили над самой землей, взмывали вверх, исчезали за крышей хаты, опять возвращались и улетали к себе в сарай, где под самым верхом крыши, в уголке меж стропил, они лепили из кусочков грязи гнездо. По чистому двору бродили несушки, легкие желтые цыплята сбегались на ворчливое кудахтанье наседки, а иные стояли у навозной кучи над черной лужицей стока из коровника и, свернув набок голову, с подозрительным любопытством смотрели одним глазом на свое отражение. Гудела большая зеленая муха, гудели в белых вишнях за плетнем пчелы, со всех сторон сыпалось веселое чивиканье воробьев.
Хотелось ей лететь ласточкой? Или бежать к Таньке Никонорихиной показать ей стекло? Или позвать ту же Таньку пойти в засеки, нарвать там в кустах снитки и медуницы и принести эту траву теленку? (Но он, их красный теленок, был в ту пору, конечно, уже привязан к колу на выгоне и сам привыкал щипать зеленую травку.)
...Неясные желания. Мир, полный прекрасной мучительной благодати. И в предощущении необъятного счастья жизни — открытая всем и всему улыбка и доверчивый взгляд детских глаз...
Тогда ей могло быть и три годика, и пять.
Разве можно теперь вспомнить, сколько ей было в тот день после ночного дождя, когда она увидела тот сказочно-красивый и теплый малиновый мир. Теперь ей, из ее сорока с гаком, ей, безнадежно больной бабе, все то далекое детство, в котором, конечно же, вместе с беззаботностью, радостью хватало и своих обид и слез, — теперь ей все ее детство виделось как один солнечный малиновый день. Ласточки, вишни за плетнем, зелено-серебряные топольки перед хатой... — все это было и потом... останется и после нее; а та улыбка, доверчивое к каждому сердце, неосознанное ожидание счастья — все это навсегда осталось там, в том малиновом дне.
Из детства, только она уже побольше была, лет семи-восьми, помнился хорошо и день, когда она ходила к отцу на покос за далекую, как тогда казалось ей, Кленовую рощу.