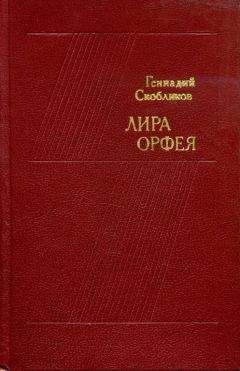Геннадий Скобликов - Старослободские повести
Из детства, только она уже побольше была, лет семи-восьми, помнился хорошо и день, когда она ходила к отцу на покос за далекую, как тогда казалось ей, Кленовую рощу.
— Сходи, дочка, отнеси отцу обед, — сказала мать и подробно объяснила, какой дорогой надо идти.
Варя прыгала от радости: одна — в такую даль!
— Глупая ты еще! — посмеялась мать.
По такому случаю мать достала из сундука Варино праздничное платье, сшитое деревенской портнихой, должно быть к пасхе (мать, как правило, все обновки справляла или к Велику дню или к троице) и велела надеть новые пеньковые ходоки, чтоб не наколола ноги. И хотя босым ее ногам ничего не могло сделаться: вон, целыми днями носится по выгону да бурьяну! — она старательно моет ноги над лоханью, натягивает бумажные коричневые носки (тогда их карпетками называли) и обувает новые мягкие ходоки, связанные матерью еще зимой в запас, потому что летом не до вязанья: день год кормит.
Мать провожает Варю до огородной калитки и еще некоторое время стоит там... в длинной юбке, в светлой ситцевой кофте, в белом платке, со своей обычной доброй улыбкой. А Варя — принаряженная в голубое платье, с белым узелком в руке — быстро шагает по дорожке сада. Ей лестно, что мать проводила ее до плетня и теперь стоит — провожает глазами, и одновременно хочется, чтобы мать побыстрее ушла домой, чтобы она, Варя, осталась совсем одна и самостоятельно начала свое путешествие.
Дорожка сада густо поросла подорожником, он цветет, и каждый стебелек усыпан белыми бусинками. И все кругом цветет. Яркие желтые подсолнухи повернулись как один к солнцу, по ним ползают пчелы и черно-белые шмели — и в воздухе висит незримая сладковатая пыльца оцветья. Весь бело-розовый поверху стоит буйно разросшийся зеленый картошник, и все огороды слева и справа лежат бело-розовые. Потом она идет мимо зелено-голубой ржи в конце огорода, проводит рукой по густым податливым колосьям — и ладошка ее ощущает их тяжесть, и щекочет ноздри медовый аромат налива. И так ей хорошо идти цветущими огородами, потом густыми засеками по узкой тенистой дороге... Так тихо и хорошо кругом и такая ясная радость на душе, что — думала теперь Варвара, переживая заново это видение далекого детства — и ничего, кажется, больше не надо: только бы оставалась навсегда та светлая, ничем не замутненная радость жизни.
Она долго шла по ровной полевой дороге в высокой ржи, и ветер мягко овевал ее лицо, и опять пахло медом, пахло теплом земли и зелени, и солнечный этот день покойно и чуть загадочно звучал голосами невидимых во ржи птиц, звоном кузнечиков, едва уловимым шелестом колосьев. По обочинам дороги весело пестрели ярко-синие васильки и бело-желтые ромашки, а в самой ржи — возвышаясь над нею — тут и там алели малиновым цветом головки цветущих высоких колюк. Она поставила узелок на обочину и, оглянувшись: не видит ли кто? — вошла в эту чью-то чужую рожь. Поколов руки, пригнула она верхушку серебристо-зеленой колюки и с немалым трудом сорвала с нее самый большой и пышный малиновый цветок. Запах цветка колюки всегда нравился ей, и еще у него такая красивая, пышная и мягкая бахрома! И она, держа эту тяжелую и пышную корзиночку за тонкий хвостик, сначала долго вдыхала чистый и тонкий аромат цветка, а потом долго гладила мягкой его бахромой по своей щеке.
...Восьмилетняя девочка в голубом платье, одна посреди поля цветущей ржи, с малиновым цветком в руке — и его бахрома так приятно ласкает ее лицо — с какими-то неясными самой себе чувствами и мыслями...
В горячей полуденной тиши не переставая звенели кузнечики, едва уловимо шелестела рожь. А с того места, где стояла Варя, с самого высокого места поля, она вдруг увидела такие дали, каких она раньше или вовсе не видела, или почему-то не замечала. И ту ясную радость, с какой вышла она из дому и какая сопровождала ее всю дорогу до этого места, теперь сменили какие-то новые чувства.
Это высокое поле и лежащая неподалеку Кленовая роща, к которой вела обсаженная деревьями дорога, обычно смотрелись из деревни тем краем земли, за которым лежало что-то неизвестное — и необязательное, чтоб о нем надо знать. Там, дома, их деревня всегда была самой главной, потому что она лежала в самом центре мира, какой ежедневно видела Варя, — а все другие деревни были где-то там, в стороне, на краю, и она, Варя, не раз с сожалением думала о тех неизвестных ей людях, что живут в этих других деревнях, которые на краю. Теперь, с этого высокого поля, она видела вокруг себя: за полями, логами и просторным болотом слева вдоль речки — целый десяток деревень и хуторов, дальние белые церкви и ветряные мельницы, каких не было в ее деревне, купы высоких деревьев на железнодорожной станции, откуда донесся привычный в эту пору дня гудок пассажирского поезда (теперь отозвавшийся в душе Вари каким-то новым, щемящим чувством... может, и потому, что она никогда еще не была на этой станции, ни разу не видела этого поезда); но самое неожиданное было вот это: ее родная деревня с серыми соломенными крышами и редкими вишневыми садами... уже не смотрелась главной, а лежала как одна из многих на этом широком и, наверное, бескрайнем просторе.
Вот этот-то земной простор и обрадовал, и удивил, и испугал ее своей реальной необозримостью. Ничем не защищенная, открытая для всего ее душа взволновалась от живого и чем-то мучительного ощущения этого простора, этой бесконечности земли, этого множества деревень... и городов, которых она не видела никогда, но знает, что они есть, с чужими для нее людьми. И она, маленькая Варя, испугалась этого простора. Может, и потому испугалась, что откуда-то уже знала, что ей никогда не охватить и не вобрать в себя всех этих близких и дальних полей, лесов, болот и лугов, еле видимых в сизой полуденной дали незнакомых деревень и хуторов, никогда не узнать всех живущих в них людей, как знает она своих деревенских, — а те чужие никогда не узнают о ней...
Ей было и растерянно, и непонятно отчего страшно, и обидно; и в то же время в глубине души проснулась жажда охватить, вобрать в себя все-все, что она видит: все исходить, все увидеть вблизи своими глазами, чтоб другие тоже увидели, что есть и она, есть на свете такая девочка Варя.
Рожь кончилась, и Варя свернула на старую Большую дорогу, прямую и широкую, обрамленную с обеих сторон насыпными валами, обсаженную грушами, яблонями и боярышником. Дорога уходила в даль под уклон — прямая, просторная и пустынная, и ей, Варе, казалось, что, кроме нее, уже давно никто не ходил по этой дороге и что свежие ряды сена по ее обочинам скошены какими-то чужими людьми; громкий стрёкот сорок, перелетавших впереди нее с куста на куст, только подчеркивал тишину и тревожную настороженность мира вокруг Вари.
Справа, за узким полем, такой же тревожной тишиной молчала густая Кленовая роща. Слева, за полосой паров, начинался огромной лог, густо поросший разнолесьем, он вел к Святому лесу, знаменитому и страшному тем, что в нем, говорили, были волчьи логова. А сама дорога постепенно опускалась к речке, где ее как бы встречала ровная аллея акаций, и вела к тому месту на взгорье у излуки реки, где, говорят, еще недавно стояла красивая белая церковь, разобранная потом на кирпичи, и где еще сохранились склепы бывших богачей Чупятовых: люди говорили, что в этих склепах на покойниках есть золотые кресты и разные драгоценности, но откапывать их нельзя, потому что это грех.
Безлюдье и тишина, тревожная трескотня сорок, вспомнившиеся склепы... Варьку-Варюху одолел давно подкрадывавшийся страх, и она теперь не только забыла о недавнем желании незаметно подкрасться к отцу, а боялась, что вообще не найдет его, потому что она подошла уже к возвышавшемуся тут над всем высокому и могучему Большому дубу, стоявшему около дороги, откуда слева за голым склоном виден был край выкошенного болота, а отца все не было, — звать же его в этой тишине было страшновато.
Отец сам вышел ей навстречу, конечно удивился, что она одна пришла к нему в такую даль, и она была горда собой. И опять ей стало спокойно и хорошо.
Отец приготовил для нее большой пук дикой смородины. Черных ягод на ветках было еще мало, больше зеленые и розовые, но они были крупные и вкусные. И Варя, усевшись рядом с отцом на траве в тени под дубом, стала объедать одну ветку за другой. А отец разложил снедь и, спросив, не проголодалась ли она, принялся за обед: молодая картошка с зеленым луком, круто сваренные яйца, молоко в зеленой литровой бутылке.
Отец, поев, прилег отдохнуть, а Варя пошла к речке. В этом месте по обе стороны Рати лежат просторные луга с густой и мягкой луговой травой вперемежку с мелколиственным зеленым клеверком. Варе нравилось идти по мягкой нескошенной траве, и эта приятность луга и успокаивающая близость отца окончательно сняла с ее души ту недавнюю растерянность и страх.
Луга по обе стороны пестрели рядами сухой и свежескошенной травы, кое-где уже стояли копны. Несмотря на жаркую обеденную пору, тут и там маячили косари, бабы в цветастых платках ворошили граблями сено. По берегу у самой речки бродили стада гусей, почти не смолкал их негромкий говор.