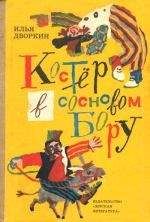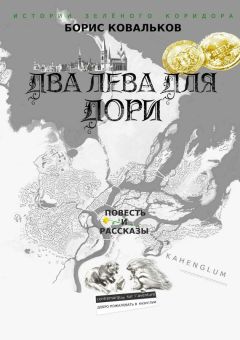Борис Порфирьев - Костер на льду (повесть и рассказы)
Он сел и нервно начал расправлять на коленях вздувшиеся пузырями брюки.
Все сказанное им было такой демагогией, на которую не стоило даже возражать. Ведь и ребенку понятно, что новая точка понадобилась лишь после того, как на погрузку решили бросить рабочих цехов и служащих канцелярии.
Но поднялся Долотов и подлил масла в огонь:
— Правильно говорил Сопов. Я знаю об этой докладной. Кроме того, могу сейчас дюжину заявлений на Снежкова зачитать. Жалуются на него. Не успел получить отличную комнату в общежитии, как потребовал другую. А сам знает, в каких условиях люди живут. Мне давно рядовые люди давали сигналы: почему он себе квартиры выбирает?
Это тоже было для меня неожиданно. Но если бы я и хотел сейчас возразить, то не смог бы объяснить, почему переехал от Насти.
Удар оказался нанесенным с такой расчетливостью, что я склонил голову.
Хохлов спросил у Долотова:
— Все?
Тот кивнул. Хохлов неторопливо повернулся всем телом к Шельняку, посмотрел на него. Миндалевидные глаза Шельняка забегали, и я понял, что удар этого человека должен доконать меня.
К моему удивлению, Хохлов отвел от него глаза, поднялся грузно, медленно. Откашлялся, сказал хрипло:
— Я отвечу на вопрос начальника ЖКО. С бытом у Снежкова неблагополучно. С бабами запутался, потому и меняет квартиры. Вот зачитаю заявление.— Он взял со стола бумажку и, держа ее в вытянутой руке, далеко от глаз, начал читать: «Я считаю своим долгом доложить о морально-бытовом облике инженера Снежкова А. Н. Он показывает отвратительный пример молодежи предприятия, а еще комсомолец. Весь поселок знает, что он жил с уборщицей общежития ИТР Косолаповой А. М., пользуясь тем, что у нее погиб на фронте муж. Но ему показалось, что выгоднее жить с буфетчицей столовой Казаковой Е. Н., так как она подкармливает его продуктами. А в Москве у него живет невеста Регинина Л. Н., которой он дает телеграммы. Прошу обратить внимание на моральный облик этого двуличного человека и сделать соответствующие выводы».
Я бы, наверное, промолчал, но когда услышал Ладино имя, не выдержал и вскочил. Мой взгляд встретился с взглядом Дьякова, но тот опустил глаза, тяжело засопел, неуклюже переменил позу на стуле.
Тогда я снова посмотрел на Хохлова и крикнул:
— Это клевета! Вы только скажите, кто посмел это написать?!
— Молчать!— гаркнул Хохлов. Он швырнул письмо на стол и уже спокойно заявил:— Скажу. Она секрета не делает, не боится... Рядовой работник бухгалтерии— Меньшова. Спасибо ей за бдительность. Докладная давно получена. Правильно сказал Сопов: не хотел я сора из избы выносить,— положил докладную под сукно,— думал, одумаешься. Считал, что воспитаю из тебя работника. А ты оказался склочником. В тяжелую для предприятия минуту решил клин в коллектив вбить, расшатать дружный коллектив.
Он уперся кулаками в стол, наклонился над ним и, сверкая глазами, сказал:
— Думаешь, не знаю, что ты писал в главк? Ты честный сигнал Меньшовой назвал клеветой, а клеветником-то оказался ты. Так ведь и комиссия признала.
Взгляд Дьякова остановился на мне — из хмурого превратился в удивленный.
Хохлов грузно опустился в кресло, обвел глазами кабинет, спросил:
— Ну, кто еще хочет?
И совсем неожиданно для меня подняла руку Тамара, подняла небрежно, не меняя томной позы. Опустив плавным жестом папиросу в хохловскую пепельницу, натянув юбку на шелковые колени, не поднимаясь, сказала:
— Рыльце в пушку у Снежкова, что и говорить.
Я встретился с ее наглым взглядом, но она глаз не отвела, усмехнулась. Медленным жестом поправив крашенные перекисью водорода волосы, собранные надо лбом башенкой, продолжала:
— Парень красивый, молодой, офицер. Отбоя от баб нет. Вот и пользуется. А о том, что комсомолец, забыл...
— Все у тебя?— спросил Хохлов.
Повернулся к Шельняку, сказал сердито:
— Ну, а ты что молчишь?
Миндалевидные глаза Шельняка забегали, как мне показалось, растерянно, и я подумал, что ему не хочется выступать.
Но он сутуло поднялся.
— Снежков напрасно называет письмо Меньшовой клеветническим. Могу подтвердить, что ради уборщицы Косолаповой он пошел на преступление — израсходовал талоны на хлеб, которые был обязан сдать.
Я растерянно посмотрел на него, на Тамару и сказал:
— Но вы же знаете, для какой цели я использовал их?
Тамара не отвела глаз, усмехнулась, а Шельняк потупился. Он, видимо, колебался. Вздохнув, признался:
— Действительно, на талоны был выменян сульфидин для Настиного сына.
Хохлов оборвал его:
— Все ясно... Все у тебя?
— Все,— торопливо согласился Шельняк.
Я видел, как Дьяков опять засопел, заерзал на стуле.
Хохлов сказал веско:
— За морально-бытовое разложение и разбазаривание хлебных талонов объявляю Снежкову строгий выговор с занесением в личное дело. Как будет послана замена, снимаю Снежкова с должности. На этом кончим.
— Дайте мне слово!— крикнул я.
Он сказал холодно:
— Дискуссии разводить будем после войны. Сейчас не время. Приступаем к работе.
Когда выходили из кабинета, я нарочно приотстал, чтобы не столкнуться с Дьяковым. Ох, как было стыдно пасть в его глазах: бабник, склочник, хапуга!
У порога передо мной остановилась Тамара и повернулась ко мне, ожидая, когда я распахну перед ней дверь. Посмотрела на меня с наглым любопытством, поблагодарила надменным кивком. И пошла, как ни в чем не бывало. Неужели это она просиживала вечера подле Мишки?
Чего уж требовать от других? Шельняк и Долотов связаны с Хохловым одной ниточкой. Смешно, начальника ЖКО пригласили на производственное собрание! Оба выступали потому, что если снимут с работы Хохлова, полетят и они. А Шельняк-то какой гусь оказался?
Это ведь он снабжает Хохлова икрой и водкой. На это летят сотни хлебных талонов, что там мои восемь килограммов... Да, но я брал и потом, чтобы подкормить Мишку... Ах, как нехорошо! Ведь только это обвинение и было справедливым... Все-таки самое главное в жизни — быть честным. Тогда ничего не страшно — правда в нашей стране всегда восторжествует... Но разве я не был честен, если взглянуть на мой поступок с точки зрения большой правды?.. И что же обо мне думает Дьяков?.. Постойте, а откуда Хохлов знает, что я писал в главк? Комиссия признала меня склочником? Не может быть! Как же тогда меня утвердили в должности?
Обо всем, что произошло, я написал письмо Калиновскому. Через четыре дня пришла телеграмма: «Выдумано нельзя опускать руки нужно бороться».
Хорошо сказать — бороться. А как? Калиновский говорил: надо идти к людям. К кому именно? Прежде всего, к Дьякову. Ведь мне нужен совет.
Но разве Дьяков будет теперь со мной разговаривать?..
И я начал сторониться Дьякова. Раньше это было бы почти невозможно, потому что тогда я не мог обходиться без его паровоза, а сейчас у меня была своя дрезина. Видел я его редко, обычно — издали.
И поэтому его приход ко мне домой был для меня полной неожиданностью.
А он вошел, как будто бы ничего не случилось, пожал, задержав в ладонях, мою руку, начал свертывать цигарку.
— Как это там, Николаич, говорится?— начал он, хитро поглядывая на меня из-под седых бровей.— Если Магомет не идет к горе, так гора идет к Магомету? А? Чего же ты все из себя Магомета-то изображаешь? Под лежачий-то камень вода не течет, слыхал, наверное?
Я смутился.
— Эх, Николаич, Николаич,— продолжал он, вздохнув.— Не хотелось мне с тобой поначалу говорить, больно было слушать, что ты по бабам ходишь и хлебные талоны вроде бы пропиваешь. Да не такой человек наша Настя, чтоб я поверил в это; знаю ее с первого дня на Быстрянке... Да и Дуська—душа-человек. Вчера я с ней разговаривал — заплакала она, когда о тебе вспомнила.. Говорит: «Прову глаза выцарапаю за Снежкова...»
Я опустил голову.
— Да, Николаич,— снова вздохнул Дьяков, — жизнь — она штука сложная. Да и Прова нашего вокруг пальца не обведешь. Ведь торф он один дает бесперебойно во всем нашем тресте. Ныне-то была первая загвоздка, и то из-за морозов; я-то знаю—с первого дня здесь работаю.
Он выпустил клуб дыма, посмотрел на меня, покачал головой.
Сказал:
— Эх, партизан, партизан. Все один и один. Чего ж ты народ-то обходишь? В главк-то писал — не посоветовался с нами? О чем бумага-то была?
Видя, что он ждет, я сказал хмуро:
— О порочном методе руководства.
— Н-да,— протянул он.— Ну, а сейчас ты и руки опустил? А духом-то падать вовсе и не надо. В жизни всякое случается. Что, думаешь, у меня жизнь больно гладкая прошла? Я вот этими руками революцию делал, первым машинистом был на Шатуре, когда по приказу Ленина торф для молодой республики добывать стали. А потом сколько этих шатур объехал. И сюда первым машинистом заявился — по партийной мобилизации послали. Все езжу — жена уж привыкла... Всякое бывало и у меня в жизни... И хохловы, и нехохловы были. Однако всегда жил так: прав — стою на своем, бьюсь за правду... В общем, вот что, Николаич, положение у тебя хуже губернаторского: с работы тебя Пров снимет, да еще характеристику тебе подпортит... Пиши-ка ты в главк Калиновскому, который приезжал к нам: он о тебе высокого мнения; да и нам не надо, чтобы тебя снимали, потому — работаешь ты по транспорту у нас лучше других.