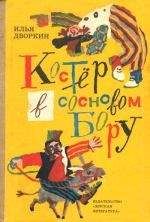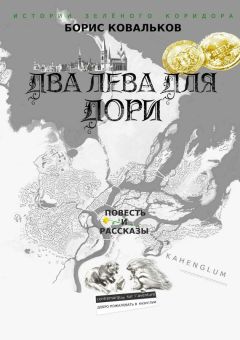Борис Порфирьев - Костер на льду (повесть и рассказы)
— С фронта. Как и ты, в экой же шинеле.
— Где воевал?
— Под Нарвой какой-то, забери ее нечистый.
— Ну-у, под Нарвой, значит, вместе со мной. Передай ему привет. Скажи, от Снежкова. Он у тебя не танкист?
— Танкист, батюшка, танкист.
— Хороший такой, статный парень?
— Он, он самый.
— Он ведь у тебя в руку ранен?
— Нет, в ногу. Эдак вот отхватили.
— Эдак? Ну-у! Знаю его! Как же! Где работать-то собирается?
— Отдыхать пока будет.
— Когда отдохнет, к нам ведь пойдет, на торф. Пусть ко мне приходит. Я его устрою. Держи кольцо. Да невесту-то поздравь от меня. Давай, давай, не жадничай. Что там есть у тебя еще — выкладывай.
На оставшиеся талоны я выменял урюку и рису и, нагруженный свертками, пошел домой. Все это я запаковал в бумагу, перевязал шпагатом. Потом пришил подворотничок, почистил шинель. И через полчаса мчался на дрезине к ближайшей станции, мимо которой проходили поезда на областной центр.
Маленький человек, который, по словам Шельняка, должен был все сделать, оказался маленьким в буквальном смысле слова. Больше того, у него были маленькие погоны с маленькой звездочкой, и, по-моему, маленькая жена, выглянувшая было в коридор. Когда этот человечек развернул мою далеко не маленькую посылку, на его лице можно было прочесть тоже далеко не маленькую радость. Ему надо было выйти за сульфидином из дому, но он явно не хотел, чтобы я здесь задерживался. С собой он меня брать тоже не хотел. Я понял его и сказал, что подожду подле кинотеатра, мимо которого только что проходил. Я ждал его спокойно, зная, что он никуда не сбежит. Он вернулся минут через сорок и вручил мне целую пачку пакетиков, обернутую в целлофан. Мы поблагодарили друг друга, и я отправился на вокзал. На два поезда мне не удалось взять билета. Выехал я только утром с пригородным. Со станции вызвал дрезину, в восемь часов позвонил с Островка Хохлову, доложив, что ночью ликвидирована авария, и в девять уже был в больнице.
Докторша обрадовалась моему приходу, потому что Мишке было совсем плохо. Я передал сульфидин, сходил к Насте и окунулся с головой в работу.
Вечером я написал длинное письмо Ладе, в котором покаялся в своем грехе. «Однако,— писал я,— эти талоны все равно попадали в руки тех же бухгалтеров, и они забирали их себе...» Я словно оправдывался перед Ладой.
Уже на другой день Мишке стало легче, а еще через день я сидел вместе с Настей у его постели. Он был так беспомощен и так велика была скорбь матери, что я чуть не заплакал. Но дело пошло на поправку. Меня часто пускали к мальчику, и я приходил к нему не с пустыми руками. Но всякий раз, когда я производил товарообмен, передо мной вставало лицо Калиновского, и мне хотелось оправдаться в его глазах.
Ладино письмо поддержало меня в эти трудные для моей совести дни. «Я бы поступила так же...», — писала она.
Сидя у Мишки, я гладил его плюшевую голову, исхудавшие руки. В один из таких вечеров в палате появилась... хохловская Тамара. Увидев меня, она на мгновение смутилась, но тут же небрежно кивнула:
— Привет сиделке.
Склонясь над изголовьем, поцеловала мальчика в лоб, спросила задушевно:
— Ну что, маленький? Лучше стало? А я тебе икры принесла. Помнишь, на рыбалке ел?
Я не верил своим ушам! И это она? Мне даже показалось, что на ее ресницах — слезы.
Она сердито посмотрела на меня, вытерла глаза надушенным платочком. Оправдалась:
— И мне впору лечь в больницу,— насморк замучил.
И уже окончательно взяв себя в руки, спросила холодно:
— Спички у вас, конечно, нет? Да не бойтесь, в палате курить не буду.
Она снова поцеловала Мишку, прикурила от электроплитки, стоящей на подоконнике, и, не попрощавшись со мной, вышла. Потом приоткрыла дверь и пообещала Мишке:
— Зайду опять, когда дяди не будет.
Я сидел в растерянности. А мальчик сразил меня окончательно, сообщив:
— Дядя Саша, а она уже третий раз приходит. Любит сказки рассказывать. Только неинтересно. Вы лучше про войну расскажите.
Вот тебе и Тамара!
— Дядя Саша, про войну...
Я словно очнулся:
— Да что тебе рассказать? Я уж все рассказал. Я ведь, дорогой мой, не так уж долго на фронте был. Да и то дороги строил.
— А вы о том, как взрывали. И про шпиона с деньгами. Или лучше про разведчика Шаромова.
Я вздохнул: не очень-то любил разведчик Шаромов распространяться о своих подвигах. Но, в конце концов, что из того, что я сочиню что-нибудь для малыша? Орденов-то у Володи была целая грудь — за что-то ему ведь вручили их?
В помощь себе я взял прочитанные книги, и Мишка, по-моему, был доволен.
Думаю, что и Лада похвалила бы меня за такие рассказы.
Как-то она там, в Москве?
Глава тринадцатая
Меня не любят многие,
За многое виня,
И мечут громы-молнии
По поводу меня.
Угрюмо и надорванно
Смеются надо мной,
И взгляды их недобрые
Я чувствую спиной.
А мне все это нравится.
Мне гордо оттого,
Что им со мной не справиться,
Не сделать ничего.
(Евгений Евтушенко).
В середине декабря ударили сильные морозы. Десятки женщин болели гриппом. Бараки напоминали полевые госпитали во время наступления. Больные лежали на нарах в два этажа. Врачи и сестры валились с ног от усталости.
Грузить торф было некому.
Чтобы спасти положение, надо было бросить на эту работу всех канцеляристов, вагонников, рабочих. Но Хохлов не решился этого сделать.
Однако положение было настолько серьезным, что и он забыл о своем распорядке. Днем и ночью он звонил по телефону. Он рычал в трубку, брызгая слюной. Машинистка не успевала перепечатывать выговоры. Дрезина Хохлова металась из конца в конец предприятия. Охрипший от мороза и бессонницы, он материл людей в бога и в душу. Среди инженеров, техников и мастеров не было такого, кто бы спал больше двух-трех часов в сутки.
Но уже ничего не могло предотвратить надвигающуюся катастрофу: на ГРЭС сел пар. Танковый завод отключили. Город оказался в потемках.
На Быстрянстрой приехала комиссия во главе с секретарем обкома партии. В семь часов утра позвонил сам Хохлов и предупредил, чтобы я никуда не уезжал: будет совещание. Однако до десяти нас не беспокоили. Оказалось, что секретарь обкома отправился с Дьяковым на участки.
В десять всех инженерно-технических работников собрали в директорский кабинет.
Секретарь обкома сидел рядом с директором за письменным столом; бросались в глаза его сапоги, облепленные торфом: видимо, он побродил немало за эти три часа... Он обвел глазами собравшихся. Лица у людей были обветренными и землистыми; распухшие, покрасневшие веки закрывались. По-моему, большинство, как и я, щипали себя, чтобы не заснуть.
Хохлов поднялся тяжело, хмуро; уперся большими кулаками в столешницу. Объявил хрипло:
— Слово о создавшемся положении имеет секретарь обкома по оборонной промышленности товарищ Вересов.
Вересов снова оглядел людей, заговорил:
— Мне вас агитировать нечего. Объяснять обстановку не буду. Всем известно, что наши войска вышли на северные норвежские рубежи, ворвались в Польшу, Венгрию, Чехословакию, кончают разгром дивизий в Либавско-Виндавском котле. Нужны новые и новые танки. А чтобы работал танковый завод, нужен торф. Вы остановили работу станции. Завод отключен по вашей вине. Люди работают, не жалея ни сил, ни времени, они готовы сделать все,— как же вы, руководители, допустили прорыв? Что это — равнодушие? Помните: равнодушие сейчас равносильно предательству. Завод простоял четыре смены. Мы не дали танковым дивизиям генерала Рыбалко пять танков. Все это можно объяснить лишь вашей беспечностью и неоперативным руководством. Положение должно быть выправлено сегодня же. Говорите, как будем его выправлять.
Хохлов подождал, не добавит ли Вересов еще чего-нибудь. Потом приказал сидящему около него Сопову:
— Давай, объясняй.
Тот встал. Еще более, чем у Хохлова, охрипшим голосом начал говорить. Чем больше он говорил, тем чаще смежались его веки. Он стоя засыпал.
— Коротаев, докладывай ты.
Коротаев говорил, засыпая...
Встал профсоюзник. Он говорил бойко, слова словно отскакивали от его зубов. Он описал положение на фронтах и призвал приложить все силы, не жалеть себя и так далее, и тому подобное.
Вересов хмурился.
Хохлов покосился на него. Перевел глаза на выступавшего, показывая взглядом, чтоб кончал.