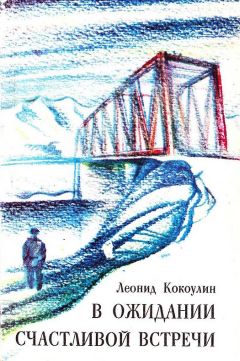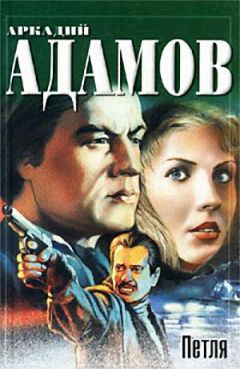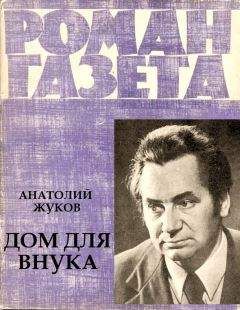Наталья Парыгина - Вдова
Но не гибель ее, а жизнь нужна была стране, руки ее и воля.
В конце сентября остановился, замер завод. Вышел приказ разбирать оборудование, грузить на поезда, готовить в отъезд.
Снова досталась женщинам тяжелая мужская работа. Но строили завод с надеждой и радостью, от этого всякая тяжесть вдвое легче казалась. Разбирали же теперь аппараты в тревоге и в горе, и оттого железо становилось вдвое тяжелее.
Ухватившись за лямку вместе с другими работницами, тянула Дарья, напрягаясь изо всех сил, поставленный на катки компрессор. Скрипели катки жалобно и натужно, но компрессор подавался потихоньку вперед, к тупичковому отростку железной дороги, к пустым платформам.
Доволокли до платформы компрессор, оставили. На платформу станки краном грузили мужики, что остались на заводе по броне, по старости да малолетству. А женщины в обратный путь двинулись не спеша, пока идешь от дороги до цеха — только и роздыху.
— Что, Даша, приуныла?
Дора положила руку Дарье на плечи, чуть отвела ее в сторону от других женщин.
— Думы замучили, — призналась Дарья. — Сама работаю, а сама от заботы не избавлюсь. Как мне в Сибирь с тремя несмышленышами ехать? Зима надвигается. Грудному дитю не выдержать такой дороги.
— Не одна поедешь. Весь завод эвакуируется. Не бросим в беде — поможем.
— Боюсь я...
— Не бойся. Ехать надо. И не сокрушайся заранее. У меня тоже двое: сын да старушка.
Дошли до цеха. Оборвался разговор. Да не развеялись от него беспокойные думы.
А если не ехать в эвакуацию? Если здесь остаться, в своем городе, в обжитом углу? Немец придет да уйдет. Не на век он. И в газетах пишут: «Наши войска временно оставили город...» Временно, пишут. Да хоть бы и не писали — кто поверит, что навсегда?
Да как же это... Как же под немцем-то остаться? Не могу я. Не простит мне Вася. Коммунист он. А я — жена коммуниста. Пишут: хуже зверей фашисты. Не пощадят они детей моих. Ехать надо. В эвакуацию.
Страшно мне — в Сибирь. Далек путь. А у меня девочка крохотная. Обещала я Васе детей сберечь. В пути тяжком и бесконечном сумею ли сберечь?
Металась Дарья мыслями взад-вперед, точно мышь в мышеловке, и ничего решить не могла. Сама решить не могла, и Дора ее не убедила. Неизвестно, как бы она поступила, если б однажды не встретилась случайно на улице с Ксенией Опенкиной.
— Что, увозят завод-то? — спросила Ксения, разглядывая с пригорка через заводской забор груженые, укрытые брезентом платформы.
— Увозят, — кивнула Дарья.
— И ты едешь?
— Куда же мне от завода...
— Да что ты к нему, к заводу-то, цепью что ли, прикована? Оставайся, не тронет тебя немец, ему города нужны да заводы, а мы как жили, так и будем жить.
Острием невидимым царапнули Дарью слова Ксении.
— Как жили? — вскинув голову и жестко глядя в узкие глаза Ксении, повторила Дарья. — При фашистах будем жить, как при советской власти жили? Ах ты, шкура продажная...
— Да что ты, что ты, — замахала руками Ксения, точно черта отгоняла, — я сама думаю эвакуироваться. Мне что — я без детей, а тебе с троими-то...
— О моих детях не тебе заботиться, — отрезала Дарья и, круто повернувшись, пошла прочь.
В стычке с Ксенией пришел конец Дашиным сомнениям. И не цепью к заводу прикована, да бывает сила крепче цепей. Одинокой вороне тоскливо на заборе. А я с людьми поеду, помогут кручину развеять, беду избыть. Завод в Сибирь — и я в Сибирь.
Дарья выгребла из ящиков комода все вещи, кучей свалила на пол, сортировала — что с собой взять, что оставить. И небогатая справа, а всякую тряпочку жаль кинуть: и простыню с подзором — бабка Аксинья еще вязала подзор, и штанишки Митины с заплаткой на одной коленке — не от ветхости заплата, за гвоздь зацепил, порвал, и даже Варины распашонки, тесные уже и ненужные, жалко оставлять на разграбление.
Варя спала. Митя играл во дворе с ребятами, одна Нюрка сидела на корточках перед пестрым ворохом вещей и с любопытством наблюдала за действиями матери.
— На, — бросила ей Дарья Варину распашонку, — кукле чего-нибудь сшей.
— Мне? — схватив распашонку и не веря внезапно свалившемуся счастью, переспросила Нюрка. — И резать можно?
— Режь, режь. Вот еще...
Митина ситцевая рубашка с продранными локтями отлетела в сторону. Локти можно бы и зашить либо рукава напрочь отрезать, да на что теперь... С собой и целую одежду всю не заберешь.
Резко дзенькнул электрический звонок. — «Не почта ли?» — встрепенулась Дарья и кинулась открывать.
Нет. Не почта. Алена пришла. Волосы выбились из-под небрежно повязанной косынки, в синих глазах — растерянность.
— Фроська моя задумала на фронт идти, — заговорила она, едва переступив порог. — Вбила себе в голову блажь, ни лаской, ни таской не могу ее образумить. Помоги ты ее отговорить, меня не слушает, может, твое слово больше потянет.
Дарья провела Алену в комнату с разоренным комодом, с раскиданным по полу бельем. Алена, казалось, не заметила беспорядка, ничего не спросила, поглощенная своей тревогой.
— Девчонка ведь! — продолжала она. — Ни росту, ни ума нету... Кабы по мобилизации отправляли — ладно, от мобилизации никуда не денешься, Андрея забрали — не хваталась я за его рубаху. А то ведь сама в пекло лезет! Я, говорит, комсомолка. Я, говорит, обязана на переднем краю быть. Да не все же, я ей говорю, комсомольцы на фронт идут! В деревню поедем — в колхозе станешь работать, хлеб для фронтовиков растить. Я в деревню к Андрюшиной сестре решила ехать, не дойдет, поди-ка, туда немец... Не хочешь в деревню — в эвакуацию собирайся, не перечу я, на заводе работай. Либо в госпиталь ступай, за ранеными ходить. Не слушает! На фронт и на фронт...
— Если накрепко решила — не держи ты ее, Алена, — задумчиво разглаживая на коленях Нюркину рубашку, проговорила Дарья.
— Не держи! — возмущенно повторила Алена. — Как же не держать — сестра ведь она мне, я ее маленькую, на руках нянчила, за мать растила. А теперь на войну отпустить... Не пущу я ее, руки-ноги ей свяжу, в оккупации с ней останусь — не пущу на фронт!
— Зря ты, Алена... Руки-ноги, может, и свяжешь, а душу ведь веревками не обмотаешь. Душа у ней крылатая. Не держи ты ее, Алена.
— Да ведь семнадцать лет ей всего! Не понимает она жизни. Через десять годов, может, спасибо мне скажет, что удержала...
— Кто ее знает, когда человек лучше жизнь понимает — то ли в тридцать, то ли в семнадцать... Я семнадцати сама-одна решила на стройку идти, да и тебе, поди, не больше было. А пока мать слушала — вперекор судьба меня волочила.
— Боюсь я за нее, — с тоской сказала Алена, — пропадет девчонка.
Дарья взглянула ей в лицо и приметила, что как-то вдруг, за три военных месяца постарела Алена. Не столько у рта да у глаз бороздки старили ее, сколько разлитая по лицу озабоченность и печаль. «И я, поди-ка, переменилась», — подумала Дарья. Зеркало стояло на прежнем месте, на комоде, но редко гляделась в него Дарья и наспех, скользом — волосы поправить или платок повязать, а лица своего словно и не видала.
— Мы с тобой на стройку потянулись, — опять заговорила Дарья. — А теперь война. Теперь на фронте она нужнее, потому и рвется туда. Не держи ты ее, Алена, — все равно не удержишь. Проводи по-доброму. Всякий век свои законы ставит, и молодые всего лучше знают, куда время зовет. Пускай идет. Не перечь.
— Я думала — Фросю поможешь мне уговорить, — грустно заметила Алена. — А ты меня уговариваешь.
— Говорю, что думаю. Не серчай.
— Я не серчаю. В дорогу собираешься?
— В дорогу.
— Анна Садыкова тут остается. Куда, говорит, мне, однорукой, с этаким выводком по дорогам мотаться. А я — в деревню вот... В деревне пересидим с мальцом беду, а как отгонят немца — домой воротимся.
Алена встала, затянула потуже косынку на голове, волосы под нее заправила.
— Зайди, Даша, вечером, посиди с нами. Видно, и правда не удержать мне Фросю… Пирог испеку, чаю попьем. С ночным поездом увозят их... На курсы, говорит. Может, пока она на курсах будет, и война кончится?
— Начала ее не чуяли и конца не видать, — сказала Дарья.
Эшелон, с которым уезжала Дарья Костромина, уходил из Серебровска шестнадцатого октября. День выдался солнечный, в садах золотилась неопавшая листва. По платформе ходили женщины с корзинами, продавали яблоки — антоновку.
Настя пришла к поезду с самодельной котомкой за спиной, набитой под завязку, и с баяном. Наказал Михаил сберечь баян, и еще примету сама себе Настя выдумала, что если баян сохранит — и муж с войны вернется. Все бросила, что нажили, только необходимую одежонку да валенки сунула в котомку, а баян никому не доверила, забрала с собой.
— Марфа с мальчонкой бежит, — заметила Люба.
— Где? — спросила Дора, подходя к дверям своего нового жилища — товарного вагона с печкой-буржуйкой посередине. — Марфа! — закричала она. — Марфа! Сю-да...