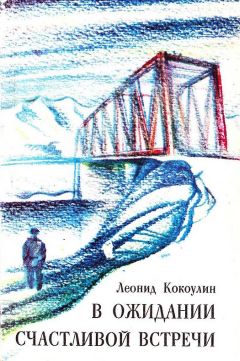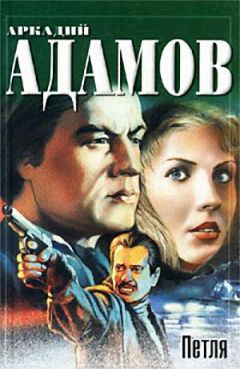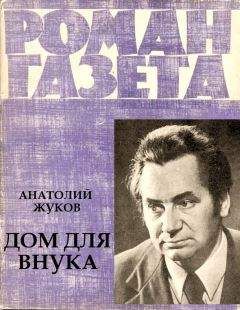Наталья Парыгина - Вдова
Чуть не ползавода ушло на фронт, а завод работает. Стоят женщины у аппаратов по двенадцать часов. Недавние домохозяйки с гаечными ключами в руках одолевают слесарные премудрости. Ребятишки, школьники недозрелые, по утрам, недоспав, сами глаза трут, а сами к проходной тянутся. Кому невмоготу сделается — поплачет втихомолку, а на люди опять без жалоб выходит. А заноет какая баба характером послабее — кто-нибудь ей напомнит:
— На фронте нашим тяжелее.
Дарья не ныла. Не из тех. Подымала раным-рано ребятишек, собирала Митю в школу. Нюрку по пути на завод в садик уводила, Варю — в ясли. И чуть не бегом — к проходной, не опоздать бы к смене.
Долог день заводской, господи, как долог! Сверхурочные ввели. По полторы смены приходится работать. Митя — один. Не обварился бы. Пожару бы не наделал... Будет ли, нет ли сегодня письмо?
Первое письмо от Василия пришло недели через две после разлуки. Все хорошо, писал, товарищи хорошие, и командиры хорошие, и немца скоро прогоним. С Михаилом Кочергиным, писал, попал в один взвод. На обертке от пачки махорочной было написано письмо, не случилось, видно, под рукой другого листочка.
Прогоним скоро немца, писал Василий. И товарищ Сталин в своей речи третьего июля сказал, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты. Два человека, которым безоглядно верила Дарья. Но немец лез и лез вперед, не было ему удержу. Рушились города. Горели села. Осыпались неубранные хлеба. Вырастали бессчетные могилы.
По радио редко назывались города и села, которые занял враг. На всех фронтах наши войска вели упорные бои, писали газеты. Иногда фронт называли: Западный, Южный. А Дарья думала о Леоновке. Что, если захватили? Клавдия как же с ребятами? Иван Хомутов, председатель, коммунист? На фронт не возьмут — хромой он. Лидия Николаевна с девочкой? Всех, всех до единого перебрала Даша в памяти своих односельчан, от избы к избе прошла по родной деревне. И тут же в первый раз трезво, затомившись сердцем, подумала о Серебровске: а вдруг сюда дойдет немец? Недалеко уж...
Да когда же обрубят когти проклятому зверю? Через сколько лет, через сколько бед суждено пройти людям, прежде чем вернется мирная жизнь?
По ночам Серебровск лежал во тьме, не светился ни единым огонечком. И завод стоял темный, будто спал. Не спал он, работал. Но не пропускали и малого лучика картонные и фанерные щиты, которыми были закрыты окна.
Ночью вражеским самолетам не отыскать в черной степи черный город. Днем не укрыться городу от врага. Но все как-то не верилось, что может вдруг появиться в чистом небе гудящая смерть.
Бомбардировщики налетели утром. Дарья была дома, только пришла с ночной смены, села на кровать, оперлась о стенку усталой спиной, дала Варе грудь. Митя в школу ушел, Нюрка возилась на полу с резиновой куклой. И вдруг завыла сирена. Протяжно, тревожно, пронзительно, и долго тянулся над городом этот пугающий звук. Варя выпустила грудь изо рта и насторожилась, Нюрка бросила куклу, уткнулась головой Дарье в колени.
Сирена гудела раньше, объявляя учебную тревогу, чтоб привыкли люди уходить в бомбоубежище. Дарья подумала, что, может, и сейчас — учебная, но в репродукторе, который она теперь не выключала, торопливый голос предупреждал о возможном налете вражеских самолетов. «Митя-то! — испугалась Дарья. Как бы в школу не угодила бомба...» Она сперва подумала о Мите и о школе, а потом уже о себе.
Дарья отстранила Нюрку, встала с постели. Варе передалась тревога матери, малютка заревела. Дарья принялась ее, ревущую, завертывать в байковое одеяло, но руки у нее тряслись, Варя дрыгалась; и ничего не получалось.
— Да помоги же ты, поддержи ей руки-то! — крикнула Дарья Нюрке.
Сирена, уныло снижая звук, смолкла. И тут, в тишине, Дарья услышала отдаленный гул самолетов.
— Бомбить нас будут, мам? Бомбить? — спрашивала Нюрка со страхом и любопытством.
«На улицу надо, — подумала Дарья. — К Мите ли бежать, в подвал ли...»
Унизительное, никогда прежде не испытанное чувство слепого животного страха охватило Дарью, казалось, что вот-вот дом рухнет и придавит ее с ребятами, и она, прижимая к груди Варю, металась по комнате, почти потеряв способность управлять собой.
Разбойничий гул самолетов набирал силу, приближался, что-то волчье, хищное, ужасное было в этом гуденье. Варя орала во все горло, то ли испугавшись воя сирены и самолетов, то ли, почувствовав инстинктивно ужас матери перед надвигающейся напастью.
— Мамка, боюсь! — закричала Нюрка.
Самолеты рычали и выли совсем близко, кажется, над самой головой, и Дарья невольно съежилась, прижимая Варю к груди. Нюрка вцепилась в Дарьино платье.
— Мамка, бою-усь!
И тут ахнуло, как гром ударил, только не с неба гром, а из земли. Огромный дом вздрогнул, в кухне загремели, падая, кастрюли. Дарья, сама не зная зачем, опустилась на пол, села, вытянув ноги, обхватила руками детей.
— Ничего, — твердила больше не для Нюрки, а для себя самой, — ничего, сейчас все кончится.
Опять ударил гром и вздрогнула земля, но уже дальше.
— Только бы не в школу... Только бы в школу не попали...
А самолеты все гудели, и тяжелые ухающие звуки сотрясали воздух, словно стонала раненая земля. В окнах звенели стекла, известка сыпалась с потолка, и показалось Дарье, что стена валится на нее и на ребят. Дарья вскрикнула. Но стена качнулась и встала на место. И — тишина вокруг.
На улице тишина.
И в доме тишина. Варя перестала плакать.
— Побудьте тут, — поднимаясь с полу, сказала Дарья Нюрке, — посиди с Варей дома, я скоро.
— Бою-усь! — заплакала Нюрка.
— Перестань! — прикрикнула Дарья. — Не будет боле ничего. Покачай Варю.
Она положила Варю в качалку, на ходу погладила по голове притихшую, испуганную Нюрку и выбежала из дому, закрыв детей на замок. Ботинки с тревожной торопливостью стучали по ступеням лестницы. Почудилось Дарье, что последняя бомба ударила в том краю Серебровска, где школа. Дети там... Митя! Неужто на детей нацелилась смерть?
Двор был пуст, но по улице бежал народ. Дарья выскочила наперерез лысому старичонке, который был не так прыток, как другие.
— Дедушка, куда они... бомбы-то? Не в школу?
— Не, не в школу. В жавод. В жавод угодила. А другая — в хлебный магажин.
В завод! В тревоге за детей забыла Дарья о заводе.
— Народ был в магажине-то...
Дарья кинулась туда, куда бежали люди. Вот и хлебный. Но люди бежали дальше. Значит, не здесь. Через два квартала, в старой части Серебровска, еще не видя трагических следов бомбежки, услыхала Дарья многоголосый, горестный бабий вой.
На месте хлебного магазина, в который прежде, пока не построили магазин в соцгородке, ходила Дарья, торчала часть кирпичной стены с неровным краем, и мертвой грудой громоздились обломки здания. Дружинники с красными повязками на рукавах торопливо раскидывали и разгребали кирпичи лопатами, молоденький милиционер упрашивал людей:
— Товарищи, расходитесь! Расходитесь, товарищи...
— Дочушка моя-а!.. — охрипшим голосом кричала сквозь рыданья седая женщина с обезумевшими от горя глазами. — Дочушка моя! На фронт рвалась. Не пустила я ее на фронт. Убили мою Сонечку...
Дружинники торопливо разбирали кирпичный завал, и в одном месте показалась из груды обломков женская нога в коричневом ботинке. Толпа глухо охнула.
— Помогайте, бабы, что ж мы стоим.
— Не все, не все! — закричал милиционер. — Свалку устроите.
Дарью оттеснили в сторону, к пустырю. Она увидала на земле, в пыли круглые буханки хлеба. Люди смотрели на хлеб и не решались поднять. Высокая старуха в черном вышла из толпы, наклонилась над ближней буханкой.
— Хлебушек не виноват, — словно бы оправдываясь и ни к кому не обращаясь, проговорила она.
— Бабушка, на нем кровь! — зазвенел испуганный детский голос. — Кровь на хлебе-то...
Старуха схватила девочку за руку, поспешно выбралась из толпы, бросив буханку хлеба, на которую брызнула человеческая кровь.
Что-то непередаваемо жуткое, кощунственное было в этом сочетании: хлеб и кровь. Потрясенная, стояла Дарья среди людей, глядела на развороченную землю.
— Дочушку мою, люди, дочушку мою убили, — сквозь рыданья твердила седая женщина.
Новое, упрямое, гневное чувство вызревало в Дарье. И если б показался в эту минуту из-за угла вражеский танк и сказали Дарье: прегради ему путь своим телом — встала бы, раскинув руки, и погибла за людей.
Но не гибель ее, а жизнь нужна была стране, руки ее и воля.
В конце сентября остановился, замер завод. Вышел приказ разбирать оборудование, грузить на поезда, готовить в отъезд.
Снова досталась женщинам тяжелая мужская работа. Но строили завод с надеждой и радостью, от этого всякая тяжесть вдвое легче казалась. Разбирали же теперь аппараты в тревоге и в горе, и оттого железо становилось вдвое тяжелее.