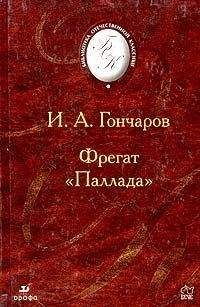Борис Мисюк - Час отплытия
— Д-да! — передразнила она и засмеялась тихим смехом.
— Да нет же! — стоял он на своем, хотя и сейчас, как ни старался, зубы сжались, и вместо «же» у него получалось «джи». И она снова рассмеялась, на этот раз по-другому — тоненько и звонко, как Маленький Принц. А он даже не улыбнулся — так замерз.
— Как зовут тебя? — спросил он, не заметив, что оба уже перешли на ты.
— Света, а тебя?
— В-виктор.
— Ты обработчик или матрос?
— М-м-матрос.
— Да у тебя же зубы стучат, Витя!
Она шагнула к нему и потрепала ладошкой его «ежик». Он, словно ждал этого, схватил ее, неуклюже ткнулся ледяными губами ей в щеку. Она уперлась кулачками в его окаменелую грудь, высвободилась из рук его и, повернувшись к двери, сказала решительно:
— Пошли!
— Н-н-н! — опять не согласился он. И она медленно вновь повернулась к нему, чувствуя, как этот упрямый парень нравится ей все больше.
Несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза, не видя глаз, начерно затененных бровями. Он, ощутив, как приливает тепло к его губам, щекам и ушам, шагнул к ней, обнял бережно и сильно поцеловал. Впервые в жизни поцеловал девушку прямо в губы.
IV
Лебедчики на плавбазе «Удача» — народ, как на подбор серьезный и в годах. Александр Кириллович Апрелев, наверное, самый молодой среди них. Хотя здесь возможна ошибка, потому что он, несмотря на лысую и круглую — натуральная луна — голову, в сорок лет так порой на мальчишку смахивает, что принимаешь его за чудо вечной молодости. Пожелай он соврать лет на десять, и вы поверите без всяких. Но врать он не любит, а забавляется тем, что после явно мальчишеской какой-нибудь выходки (спустится из лебедочной кабины на перекур и по палубе на руках пройдется), веселый и раскрасневшийся, на «подкожный» вопрос, сколько ему лет, ответит задорно и будто сам не веря:
— Сорок, а что? — и улыбнется юно, доверчиво и непременно проведет ладонью по лысине.
— Твой ли это сын, Саша? — с веселым искренним удивлением сказал начальник радиостанции, когда они еще там, на стоянке в Находке, впервые зашли в радиорубку плавбазы — «на экскурсию».
Отец и сын, они просто на диво были непохожи: рослый черноволосый юноша с темными, почти черными глазами, не по годам серьезный до угрюмости, напряженно, даже как будто судорожно замкнутый, и — открытый, распахнутый, что называется до сердца, живой, веселый даже этой сиятельной плешью человек, коренастый и невысокий. Черты же — неуловимые что-то в рисунке губ, форме и посадке головы, выпуклостях лба, легкой курносости — явно выдавали родство светлого духа отца и сына. Аминь.
Когда Александр Кириллович служил на Черноморском флоте, было это (подумать только!) двадцать лет назад, он сумел однажды подобрать по слуху «Яблочко» на баяне, потом научился брать басовые аккорды и за четыре года флотской срочной службы поднялся до вершин «Во саду ли, в огороде». На том бы, возможно, все и кончилось, потому что жена могла потратиться на сервант, импортный гарнитур, а в апогее достатка — на мутоновую шубу и люстру «как у Любарских», но баян, о котором время от времени робко заикался муж, считала недозволенной роскошью. И хотя Александр Кириллович ни пьяницей, ни игроком не был, жена с тещей на всякий случай регулярно справлялись в портовой кассе насчет его зарплаты, и таким образом утечка, даже рублевая, была исключена. Короче говоря, баян он купил лишь через год после побега из семейного лона. Баян действительно был роскошный — стобасовый, с переключением регистров, с инкрустацией по панелям, с душистыми ремнями из мягкой толстой кожи, певучий и звучный, марки «Орфей». Руки сами к нему тянулись. И за четыре месяца путины матрос траулера «Дружба» Александр Апрелев поднялся от «Яблочка» до виртуозного исполнительского мастерства. И когда капитан «Дружбы» Герман Евгеньевич Семашко поехал в Японию принимать плавбазу «Удача», матроса-баяниста он увез с собой: уж очень душевно, просто щемяще играл Апрелев его любимую «Раскинулось море широко».
Там, в Японии, в порту Иокогама после подписания приемо-сдаточного акта в каюте капитан-директора был устроен традиционный банкет с «рашен-водкой». Судостроительная фирма, желая сделать приятное русскому капитану, презентовала ему стереомагнитофон с записями эмигрантов. Там были и «Вдоль по Питерской», и «Коробейники», и «Казачок». Но каким же холодом, неуютом, бездомностью веяло от них! От самых родных, русских песен! И то, что записи были высококачественные, еще больше усугубляло впечатление чего-то отболевшего, но не зажившего: из горла певца рвался плач, безысходная тоска по утраченной Родине. Вряд ли это слышали в песнях иностранцы, но для русского слуха все было предельно ясным.
Герман Евгеньевич уже третий месяц жил в Йокогаме, и ностальгия без того давала себя знать. Он слушал эти чистейшие стереозаписи и все больше хмурил лоб. И в конце концов встал, включил спикер и объявил: «Матросу Апрелеву зайти к капитану!» Через минуту раздался телефонный звонок.
— Мы с боцманом в питьевом танке сидим, проверяем цементацию, — говорил Александр Кириллович. — Куда ж я сейчас такой, в робе?
— Не могу, — прорычал в трубку капитан, — понимаешь, Саша, не мо-гу… Вылезай, бери баян и — ко мне. Да, да и побыстрей!
— Один момент…
Японцы потеснились, освободив матросу край дивана, и вот уже баян разливает по просторной капитанской каюте:
Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали,
Товарищ, мы едем далеко.
Подальше от нашей земли…
Не скрывая слез, капитан победно глядел на гостей, да японцы и сами, видно, почувствовали разницу и одобрительно кивали черноволосыми головами, прикрывая узкие глаза желтыми веками.
Вообще у Александра Кирилловича оказался редкий, природный, видно, нюх на вечные, неувядающие песни. Притом играл он их всегда своеобразно, интонационно углубляя, вольно обходясь с мелодией, всякий раз как будто по-другому, по настроению.
— А во-о-о-о-лны бегут… — он мог протянуть эти «волны» так далеко, что у слушателей останавливалось дыхание.
Эх, жаль, не было Витоса на «Удаче» Девятого мая, когда праздновали тридцать два года Победы и его отец в затемненном зале вот этой самой столовой исполнял «Землянку» при коптилке, сделанной накануне им самим в судовой слесарной мастерской! Потом он играл и пел «Темную ночь», «На позиции девушка», «Заветный камень», а когда его просили повторять, пел новые и после каждой песни со смущенной улыбкой смотрел, как горячо хлопают тяжелые рыбачьи ладони. А через несколько дней, проходя по палубе, услыхал, как молоденький матрос в джинсах и с «хипповой» гривой, словно бурлак «Дубинушку», напевал «Играй, мой баян, и скажи всем врагам, что жарко им будет в бою», расплетая при этом тугой трос на пряди, пыхтя и делая круговые рывки руками в такт песне.
Бахнула стальная дверь с палубы, и в конце коридора, похожего на вагон метро, показались Витос с камбузницей. Медленно, слегка раскачиваясь под низкими плафонами, приближались они к дверям столовой. Поглощенный собой и спутницей. Витос не заметил отца, и Александр Кириллович спрятался за спины болельщиков — в основном пожилых ровесников, не без блеска в очах созерцающих праздник молодости.
Столовая, как ящик «Фитиля», вновь взорвалась шейком, а Витос первым вывел Золушку на середину.
— Твой малый мимо не стреляет, — ткнул локтем Апрелева в бок Антон Герасименко.
Александр Кириллович, поглаживая лысину, ответил ему сияющим взглядом. Все существо его сейчас словно наливалось светом. И когда закончился танец, юный задор уже переполнял душу Апрелева-старшего. И тут — вальс «На сопках Маньчжурии». Стрелять мимо — это вообще не по-апрелевски. Александр Кириллович пружиной рванулся из своего убежища и через мгновение уже кружил в вальсе девчонку-сортировщицу из своей смены. Они хорошо знали друг друга еще и по самодеятельности, где под его баян она не раз срывала призы в польках и мазурках.
«Ловелас», — заключил тут Витос, следя за стремительной этой парой, и склонился к Светлане, когда отец проносился мимо:
— Дает мой батя, гляди!
На миг мелькнула мысль о матери, далекой, забытой отцом, старящейся. И отразилась, видно, эта мысль в глазах Витоса. Голова Светланы была на уровне груди Витоса, и потому, наклоняясь к ней, он невольно смотрел на отца исподлобья. Острый, корящий взгляд сына льдинкой толкнул Александра Кирилловича прямо под сердце.
В оглохшем, пустом пространстве он по инерции еще сделал несколько оборотов. Вальс оборвался, руки опустились. Он поклонился партнерше, тут же снова обрел способность слышать, увидел на лице девчонки недоумение, понял, что танец не кончился, пробормотал извинение и шагнул в избавительную прохладу коридора. Все сорок лет вмиг опустились на его плечи. Ноги приняли эту тяжесть, сердце приняло этот груз и заныло.