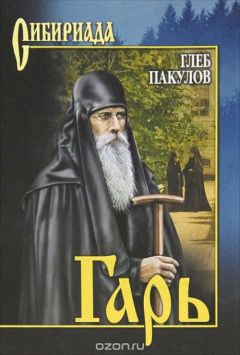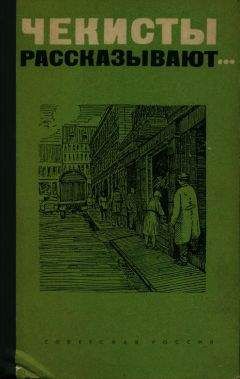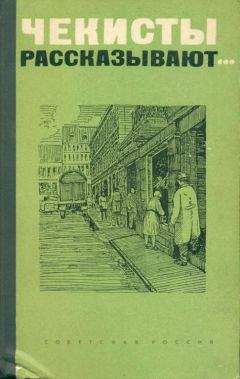Глеб Пакулов - Глубинка
— Ой, девоньки-и, не могу, решат Митьку! Эва, ножи повытягивали, страх долгие!
Это Леонтиха переживает. Сын ее гитлеровца часового изображает, топчется, участия ждет.
— Жаба-разжаба, опеть Костромичихи девка протяпывает! — Матрены Скоровой шепоток во весь роток.
А Нелька подползала, и все было бы ладом, но сестричка маху дала: саданула в немца из обреза, потом уж «Тише!» крикнула. Правда, в зале никто этой промашки не заметил, может, только военные, но они тактично продолжали смотреть, а поселковым было не до деталей: партизаны бегали у конюшни, чем-то дымили, а оккупант — Митька лежал на спине и взбрыкивал соломенными бахилами. Так и надо — помирай, не звали вас.
Ох и хлопали в тот вечер! Артисты — партизаны и оживший Митька — оккупант с Ходей, что коня изображал, головой лошадиной из-за угла трибуны помахивал, — все стояли рядком счастливые. Нелька низко кланялась зрителям, мелькала красным верхом кубанки. Кожаная куртка скрипела под ремнями, из кармана торчал обрез, ну беда, как все натурально.
После спектакля объявили танцы. Пожилые разошлись по домам, осталась поселковая молодежь, подростки да красноармейцы. Им сегодня разрешили подольше задержаться среди населения. Дружно вынесли стулья, сколоченные в ряд по шесть штук, остальные поставили вдоль стен. Получился большой круг. Девушки, а их было куда больше парней, расселись на стульях. Парни особняком сгрудились в одном углу поближе к выходу, покуривали, и дым выносило на улицу. Ребятня тоже толпилась своим табунком, а красноармейцы рассредоточились, затерялись среди множества девчат.
Поселковый баянист Аркаша Дикун на середку стул вынес, уселся. Не спеша вынул из кармана зеленую бархатку, расстелил на коленях. Только тогда вынул из футляра перламутровый баян. Баяном Аркаша дорожал, долго мечтал приобрести, да дороговато стоило это чудо. Работал Дикун старшиной катера, бревна к фабрике сплавлял. В свободное время брал в руки багор, помогал направлять лесины на зубья бревнотаски. Тут и школьники имели приработок: скобелями бревна ошкуривали. От закисшего в запанях корья вкусно пахло смолой, несло скипидаром от разорванных зубьями лиственниц. Дальние плоты приносили с собой редкие диковины: то расписанную зигзагами гадюку, то зеленую черепаху. Над сплотками порхали огромные махаоны, зимородки носились над водой изумрудными огоньками. Вот тут-то и нашла Аркашу его мечта: премировали его за трудолюбие этим самым баяном, чтобы душу тешил себе, а заодно и на танцах играл. Упрашивать не надо было. Каждый вечер играл Дикун, да как играл! Были в поселке гармонисты, но всех забивал Аркаша.
И теперь чутким ухом склонился к баяну, словно посоветовался, запрокинул кудрявую голову, блеснул на ярком свету коронками и плавно, вроде бы с ленцой, развел мехи. И вдруг сорвались пальцы, с прищелком запрыгали по черно-белым рядам густо прилаженных пуговиц. Вальс! Замерли девушки, гадая, кто позовет, глазами кавалерам приказывая: «Меня пригласи, меня». Подступили парни к избранницам, чинно, с городским поклоном, руки кренделем согнутые подали, чубатыми головами отмахнули на круг, мол, пожалте. Каким девчатам не достались кавалеры — ничего, вечер только силу набирает, еще пригласят, а пока с подругой.
Вальс за вальсом наигрывал Аркаша как заведенный. Уж несколько раз Вася Князев предлагал подменить его, но только отмахнется Дикун, даже мелодии не собьет, и снова пальцы из баяна музыку выпрастывают. Вася рядом стоит, завистливо смотрит на баян. Слепит он его перламутровым обкладом, дразнит васильковыми мехами. Они, как губы, то сомкнутся, то раскроются, и цветы в них — цветики небесные. Хочется Князеву блеснуть своей игрой перед Лидой Окишевой, дочкой инженера, девушкой росточка маленького, нет-нет да подкашливающей, с грустинкой в темных глазах. Влюблен он в нее, все знают, но зря к ней любовь затеял Вася. Вот ее рыцарь — Аркаша сорвиголова. Ничего, что похудел и лицо стало каким-то колючим, даже не так озорно вроде блестят во рту коронки — ничего. Нет его милее. Танцует Лида с девушкой или с парнем каким, а сама из-за плеча на Аркашу смотрит. Котька ни в какую не мог понять, как это Лидка, десятиклассница, могла втюриться в старого Аркадия. Ей семнадцать, а ему двадцать пять. И на фронт скоро, потому как рана, что с белофинской войны принес, зажила почти. Не поймешь их, девок: Аркаша и не глядит на Лиду, а она к нему так вся и выструнится. Князев, наоборот, влажных глаз с нее не сводит, а поди ж ты, даже танцевать с ним не идет. А парень бравый: пиджак серый, брюки черные расклешены, ботинки до глянца начищены. И галстук на шее, и значки на груди толпятся, как ордена на портрете маршала Ворошилова. Ну, а самое главное — по годам пара. Двадцать ему. И на фронт неизвестно когда пойдет, бронь у него, но если пойдет — вернется с орденами куда какими, не то что у Аркадия — медалька бледненькая, «За боевые заслуги» называется. Это он Лиде такое наговаривал, а та Нельке, подружке своей пересказала. Так и до Аркадия дошло. Услышал про «медальку», сгреб Князева за грудки, встряхнул, аж посыпались с пиджака «БГТО» и «Осоавиахимы». Белее медали Аркашиной сделался, челюсть отвалилась, а на лице слезы с соплями перемешались. Усмехнулся Дикун и отпустил Васю целым, только сказал: «Утрись, оборона».
Смотрел Котька на вальсирующих, а сам больше наблюдал за Викой. Ох уж эти городские! Поселковые девчонки сидят, семечки грызут, а эта взрослую из себя корчит — танцует, кто ни пригласи. Выскочит, белобрысая, глаза блестят, кружится, откинув голову, только косички с марлевыми бинтами мелькают. И хоть бы что, не стесняется! А потом такое увидел, аж зажмурился от предательства: Ванька Удодов пригласил — пошла, даже не поломалась для виду. Да еще улыбается, отвечает чего-то там Удоду, а он лохмы свои над ней свесил, губами толстыми шевелит, должно быть, приятное говорит, раз рассмешил.
— Все, конец! — дал себе клятву Котька.
Подошедший Вася Князев понял его слова по-своему.
— Не-е, еще не конец, — возразил он. — Танцы долго будут. Еще я поиграю. Устанет же Аркадий, как думаешь? Вот уже сбой дает, чуешь?
Никакого «сбоя» в музыке Котька не чуял. Тут свой сбой, его и чуять не надо, вот он перед глазами вертится. Ничего не ответил Князеву, отвернулся от танцующих, потерял глазами Вику, решил — навек! Но она, как почувствовала, выпросталась из рук Ваньки, припорхнула.
— Костя, пойдем! — и за руку тащит.
Срам-то какой, да и не умеет он танцевать, не пробовал никогда. Тут еще ребятня захихикала. Вика догадалась, что с ним, посмотрела на мальчишек строго. Примолкли.
— Да пойдем же, неумеха! Я стану учить!
И чего громко говорит, ведь слышно всем. Опомниться не успел, а Вика его уже в кругу ворочает, он же не о ногах думает, как их переставлять, а об ушах: какие они, должно быть, красные. Подтолкнули, совсем растерялся.
— Уроки учить труднее, а, Константин?
Это Нелька шепнула и унеслась с красноармейцем. И снова — торк! Глянул — Трясейкин с Катей!
— В колонию, в коло-о-онию!
Пропел Илларион. В глазах у Котьки зал перекосился. «Так я же упаду, — подумал он, — голова кружится. Что она, Вика, на посмешище меня вытащила?» Он вырвался, отбежал к парнишкам. Они глядели на него насмешливо, и только Ходя — ласковый человек — смотрел на него, как на героя.
Жар от лица медленно отступил, перестали гореть уши. Котька что-то отвечал Ходе, что — не помнил, бросал быстрые взгляды на площадку, искал Вику. Раза два она мелькнула перед ним, опять с Ванькой. Он не стал больше высматривать ее, отвернулся к Ходе.
— Твоя смелый, — говорил ему Ходя. — Моя тоже хочу.
Рядом с ними, в уголке, трое красноармейцев теснили Капу Поцелуеву.
— Ах, что я слышу, мальчики! — кокетливо заводила глаза под лоб Капитолина. — Но увы и ах! Я танцую только с моряками, а их нет.
— Эт-то не ответ. Одного из нас, пожалуйста, в кавалеры! — упрашивал старший лейтенант, что так лихо отчубучивал на сцене чечетку.
— Мой кавалер на фронте, — надменно скосилась на него Капа. — Между прочим, тоже командир.
— Тем более чудесно! — обрадовался старлей. — Обязаны найти с вами общий интерес.
— Непременно хотите станцевать?
— Разумеется!
— Сейчас!
Капа отбежала к Аркаше, что-то пошептала на ухо. Тот с готовностью закивал. Капа объявила:
— Внимание! Товарищ старший лейтенант просит сыграть для него вальс-чечетку. Попросим!
Захлопали, запросили. Очень приглянулся всем лейтенант. Ему хлопали, а он на Капу жалостливо глядел, не ожидал такого поворота. Но быстро справился с собой, только головой крутнул и в круг вышел. Томным движением волосы пригладил и с лицом отрешенным — руки по швам — начал выщелкивать подошвами «Крутится, вертится шар голубой».
Лейтенанта упрашивали плясать еще. Вика тоже хлопала в ладоши, кричала, как видно совсем позабыв о Котьке. И ему стало обидно. Протолкался сквозь толпу мальчишек, вышел в коридорчик. Здесь почему-то не горел свет, из темноты подмигивали огоньки цигарок, рядом кто-то кого-то обнимал, слышались быстрые и таинственные шепотки, вскрики девчачьи, то капризные, то жеманные: «Ой да не надо, не хочу, слышишь!»