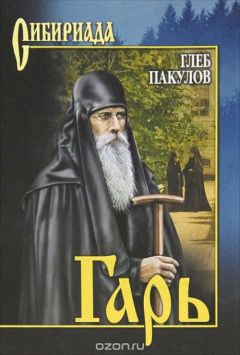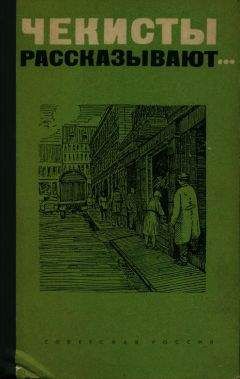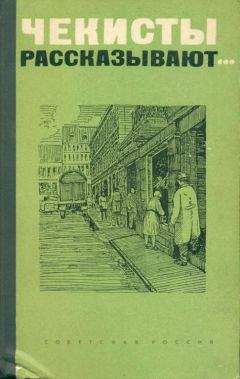Глеб Пакулов - Глубинка
Радости Котькиной не было предела: поездка в сопки, одноствольное ружье двадцатого калибра, тугой патронташ, набитый латунными гильзами, охотничьи лыжи — короткие, подбитые седым камусом, и почти месяц не ходить в школу, заниматься настоящим мужским делом.
Выезжали из поселка потемну, чтобы не дай бог кто-нибудь увидел, — удачи не будет. Филипп Семенович укладывал в передок саней промысловый скарб, а Осип Иванович устилал сани толстым слоем соломы — для дальней дороги. Ванька с Котькой уселись в самый передок, плотно друг к другу. Пора бы и трогать, но мужики свернули по цигарке, курили на ветру, расчерчивая утреннюю сутемь красными искрами. Ульяна Григорьевна в короткой курмушке стояла на крыльце, терпеливо ожидая конца перекура.
Мужики затоптали окурки, сели в сани. Дымокур разобрал вожжи, но, прежде чем стронуть лошадь, неуклюже развернулся в своей огромной дохе к Осипу Ивановичу, дескать, говори, что положено, жене напоследок.
— Ну, бывай, мать, а мы, стало быть, поехали, — Осип Иванович начал подбивать сено под бока, не зная, что еще говорить, этим самым вынуждая Дымокура понужнуть кобылу, но Филипп Семенович без напутственного слова не трогал, хотя знал — все у Костроминых переговорено на сто рядов за ночь, за ни свет-зарю. Обычай держал твердо.
— Поезжайте, мужики, с богом, — голосом, будто морозом прихваченным, с поклоном, пожелала Ульяна Григорьевна. — Ни следа вам на путике не видать, ни платочка козьего. Трогайте, эвон уж кичиги где, светать скоро учнет.
Пожелала по доброму старому поверью. Вроде бы все теперь, можно ехать. Филипп Семенович хлопнул вожжами, мокро зачмокал губами: «Мно-о! Мно-о!» Закуржавевшая лошадь переступила мохнатыми ногами, напряглась, с трудом сдернула с места прихваченные морозом полозья, сани хрустнули всеми суставами, покатили.
Сонный поселок проскочили ходко, никого не встретив по пути. Даже собаки, отпрыгав и отлаяв ночь, спали в своих будках, закупоренные предрассветной студью. Только с дальнего края поселка долетал гул фабрики, работающей в третью смену. Слышались взвизги циркулярных пил, гукали паровозики-кукушки, хрипел стравливаемый пар. На спуске Дымокур чуть не вывалил всех из саней. Они раскатились на скользком взвозе, пошли боком, даже кобылу развернуло поперек дороги, перекосило оглоблями хомут и выперло ей на уши. Мужики отматюгались, поправили упряжь, и скоро поселок с блеснувшими тут и там первыми огоньками исчез из виду.
Ванька с Котькой затевали тычки, жеребятились от радости. Утренние звезды светили ярко, глаза покалывало от их льдистых лучей. Над рекой тянул устойчивый хиус, вымораживая все живое. Когда с утробным гулом лопался лед, казалось — сани ухают вниз, становилось жутко, и оттого ребячья возня начиналась с удвоенной силой. На них не покрикивали, пусть греются. Правил Осип Иванович. Он обмотал лицо шарфом, голову утянул в поднятый раструбом воротник тулупа. Филипп Семенович отвернулся к ветру спиной, колдовал над кисетом и почем зря костерил враз задубевшие пальцы.
— Хорошо-о! — бодрился Осип Иванович. — В эдакий мороз коза в суметах днюет. Больших переходов не делает, по орешникам лежит.
С рассветом свернули с наезженной дороги на речушку и погнали по наледи вверх к истоку. Показалось солнце, и мороз напрягся. Пар изо рта Осипа Ивановича вылетал тугим комочком, сыпался на тулуп белой пылью. Но солнце оторвалось от сопок, тяжело поползло в небо, и сразу стих хиус, начал сдавать мороз. В искрометном пространстве стало не различить, где кончаются берега речушки и начинается тайга: все горело, переливалось в глазах, слепило.
С потеплением начала появляться живность. Теперь не одинокая лошадка тащила обмерзшие сани. Сорока увязалась за ними, летела, вздымаясь и опадая обочь дороги, трещала на всю вселенную: «Едут страсти-мордасти, берегись, берегись!» В убеленных распадках безымянных ключей на березах черными шапками висели тетерева. Подвернуть к ним на санях на верный выстрел можно было, но мужики не рискнули — в торосах полозья искрошишь, кончится охота, не начавшись. А пешего тетерев не подпустит на сто шагов.
В этом, казалось совершенно безлюдном, пространстве совсем неожиданно для Котьки навстречу попался обоз из пяти огромных стогов. Навьюченные таежным сеном возы громоздились высоко в небо, придавленные тяжелыми бастригами. Тетивой гудели напряженные веревки. Возы тянули битюги — привозные коняги, раньше не водившиеся в этих краях, — каждый из-под Ильи Муромца, след шапкой не накроешь.
Встречные сделали остановку. Возчики и Дымокур с Осипом Ивановичем сбились в кучку покурить, перекинуться новостями. Выползли на свет белый и Ванька с Котькой, ноги размяли.
И снова дорога. Хрупает снег под копытами, летят спрессованные лепехи, шлеп-шлеп — хлопает лошадку по ляжкам обвисшая шлея, подгоняет. Совсем близко к верховью дорогу перебежали волки. Похожие издали на собак, тянулись они след в след, опустив угрюмые морды. Лишь на секунду замерла их цепочка на белой наледи, а уж вожак сердито отмахнул треугольной головой и трусцой повел стаю дальше, к заснеженным пихтачам на гриве распадка.
— Серьезные зверюги, язви их. Тоже охотники, — глядя с уважением в их сторону из-под лакированного козырька, проговорил Дымокур. — Не сидится в морозяку, ротозеев рыщут. Попадись-ка им сейчас! Хо! С ичигами, с тулупами схарчат.
— Ноги кормят, — поддержал Осип Иванович, и Котьке стало смешно: какие ноги? Которые они едят с ичигами? Дымокур повернулся на его хихиканье, уставился ослезненным глазом. Осуждал.
— В стаи сбиваются большие, это неладно. — Осип Иванович обвел вокруг себя кнутовищем. — Видать, мало пищи в тайге, такая штуковина получается. Вот и сбегаются. Скопом-то понадежнее. Загоны устраивают, все, как у людей. С умом черти.
— Уважительность вызывают, верно, — согласился Дымокур, укладывая рядом с собой двустволку, из которой прилаживался было пальнуть, да Осип Иванович отсоветовал: далеко, чего зря патроны расфукивать.
Возбужденные встречей с волками, парнишки еще долго вертелись в санях, уверенные — раз въехали в тайгу, успевай оглядывайся, зверь попрет всякий, глядишь, и медведь-шатун объявится. Но больше зверье не встречалось, и они снова зарылись в сено.
Зимовье, куда они добрались под вечер, срубил Филипп Семенович еще в начале двадцатых годов и с тех пор каждый год выбирался сюда зимней порой поохотиться, отдохнуть от хлопотных семейных дел, а пуще от въедливого баса жены своей Любавы.
Осип Иванович бывал здесь, правда, редко, но угодья удодовские считал самыми зверовыми. Поэтому согласился ехать прямиком сюда, а не на свои, костроминские, места, хотя глянуть на родные, давненько не посещаемые елани считал долгом обязательным, да и сыну показать заповедное надо бы, взрослеет парень.
Снегу в этом году выпадало мало, зимовье стояло незаметенное, дверь — чуть потянули — легко отгрудила косой сугробик. Духом стужим, необжитым встретила избушка. Кое-какие довоенные припасы свисали в мешочках, подвешенные к матице, вязанка козьих шкур лохматилась в углу. Не обметанное изморозью оконце струило синий свет. Видимо, Филипп Семенович, уходя из зимовья, нарочно выстудил его. На столе валялись пустые гильзы, поблескивала серебряной фольгой растерзанная пачка плиточного чая, из горлышка бутылки торчала оплывшая свеча.
Филипп Семенович отодвинул гильзы в сторону, убрал чай на полку, потом уж зашуршал спичками. Свеча набирала пламя нехотя, потрескивала. Свет зыбкий, красноватый наполнил избушку, и от этого становилось уютнее, не так студило.
— Ишь, сукины дети, домовничали тут! — ругнулся Дымокур, сметая ладонью на пол мышиный помет. — Давай, парни, устраивайся, а я конягу приберу. Осип, пошли.
Распорядился строго, на правах хозяина и пошел из зимовья. Полы тулупа болтались вороньими крыльями, мели пол. Осип Иванович покорно пристроился в затылок Дымокуру, пошел следом. Ничего не поделаешь — в чужой монастырь со своим уставом не лезут, к тому же Филипп Семенович бригадир, ему подчиняться надо.
Ванька тоже решил верховодить над Котькой. Кивнул на печку, дескать, давай растапливай. Сам взял раздерганный голик, но, видимо, посчитал — мести пол еще унизительнее, бросил веник к ногам Котьки, сам присел перед печкой.
Котька добросовестно подмел зимовье, что мог, прибрал на свои места, надумал выскоблить ножом стол, прикинул — воды сейчас не добудешь, придется таять снег.
Гудела печка, дверь в зимовье то и дело хлопала: мужики выносили, что не сгодится, вносили привезенное. Ванька ворчал — хоть ночь топи, не натопишь тайгу, весь жар выхлобыстывают на ветер. Филипп Семенович, возбужденный переездом, добрым видом зимовья, целостью имущества и припасов, весело отшучивался:
— А ты дров, Ванюха, не жалей! Жар костей не ломит, а тепло и вошка любит!