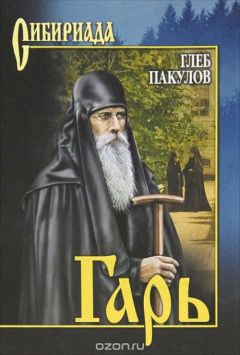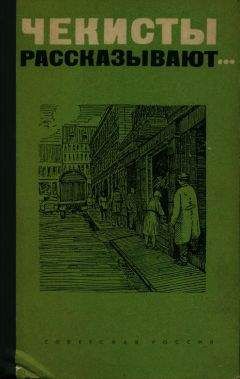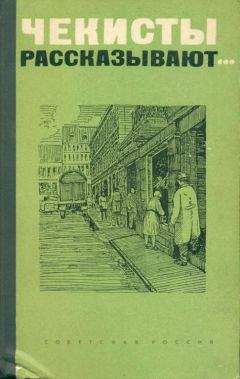Глеб Пакулов - Глубинка
— А ты дров, Ванюха, не жалей! Жар костей не ломит, а тепло и вошка любит!
Ванька в который раз выбежал, запрыгал у поленницы, паря́ вспотевшей головой. С охапкой березовых поленьев втиснулся в дверь, хрястнул их об пол. Быстро натолкал в топку дров и, сидя на корточках, наблюдал, что сейчас произойдет. Железка на миг притихла, потом загудела пламенем, и жестяная труба начала малиноветь снизу до самой потолочной разделки.
— Эдак зачем? — встревожился Дымокур. — Заставь дурня богу молиться, он и лоб расшибет!
Котька взял кастрюлю, вышел на вольный воздух. Звезды густо высыпали на небо, над сопкой висела полная луна, оголубив сиянием густой пихтач по увалам. На искристом снегу тень от зимовья лежала чернильным пятном. Фыркала, похрумкивая сеном, кобыла и тоже была голубой с одного бока, и тоже чернильная тень лежала от нее на снегу, но не мертвая: переступала ногами, трясла косматой гривой.
Он набил кастрюлю снегом, стоял, пока не продрог. Натопил-таки Ванька зимовье — не продохнуть, а от стен все равно леденит, не скоро прогреются насквозь промерзшие бревна.
— Тебя за смертью послали? — крикнул, выскочив из зимовья, Ванька. Он подхватил кастрюлю — и бегом назад. Котька виновато пошел следом.
Филипп Семенович с отцом сидели за столом, раскладывали припасы, прикидывали, что куда, на сколько хватит, что попридержать, поэкономить.
— Где там застрял, сынок? — встретил отец Котьку. — Ты привыкай все проворно делать, будь таёжкой. Тут нерасторопный да неумелый пропадет в два счета.
Дымокур кивал потной лысиной, поддакивал, а Ванька малиново рдел, как труба у печки, но не от жара рдел — от удовольствия, понимая, что старики косвенно хвалят его, ставят в пример неумехе Котьке. Поэтому старался вовсю: двигал, гремел кастрюлей, шуровал в печи, в общем — усердствовал.
Угомонились поздно и встали поздно. Позавтракали картошкой в мундире с ломтиком сала каждому, выпили по кружке крепкого чая и стали собираться на первый выход в сопки, разведать, что к чему, оглядеться. Осип Иванович с Дымокуром обули унты из выделанной сохатиной шкуры — мягкие, белые, стельки в них из сухого пружинистого ковыля, ноге тепло и легко. На Ваньке тоже унты на ногах, но камусовые, а Котька в валенках. Все четверо в ватниках, и у каждого по ружью. Настоящая промысловая артель.
От самого зимовья разошлись парами. Осип Иванович с Котькой, Удодов с Ванькой. Одни по распадкам, другие по увалам: кто на кого коз нагонит.
Свистит крепкий наст под лыжами, сзади остается широкий след. Хорошие лыжи у Котьки, подбиты шкурой с сохатиных ног. Вниз скатываешься — короткая, жесткая шерсть приляжет, едешь сколько надо. В гору идешь — шерсть дыбом станет, не скользят назад ноги.
Первый табунок увидели далеко на седловине, второй перебегал распадок, стремясь выскочить на соседнюю гриву. Четыре козы — впереди рогач гуран — неслись кучкой, видимо, стронули их с лежек Удодовы только что, и козы, напуганные, еще не опомнились, не выстроились цепочкой, чтоб легче бежать по протоптанному следу. Они делали прыжки, увязая по грудь в снегу, махом вырывались из него и снова, вязли. Осип Иванович среагировал быстро. Котька не успел ружье с плеча сдернуть, как один за другим ударили выстрелы, осыпали с ближних пихт легкую кухту. Рогач гуран перевернулся в воздухе и ткнулся в снег. Остальные развернулись от просвистевшей перед мордами картечи и пошли прыжками назад, наискосок к охотникам.
— Не торопись, сынка, под шею цель, как раз будет! — свистящим шепотом поучал Осип Иванович, быстро перезаряжая двустволку.
Котька выстрелил в близко набежавших коз, промазал. Зато табунок распался, каждая коза бежала отдельно, взметая за собой белую пыль. Расчетливо, неторопко громыхнула тулка Осипа Ивановича, и два рыжих пятна замерли на белизне распадка. Четвертая коза махами вынеслась на гриву, оглянулась на отставших подруг, рявкнула и скрылась в ржавых зарослях орешника.
Так и не успел перезарядить свое ружье Котька, только переломил в казеннике, а уже все было кончено. Осип Иванович выковырнул из снега в спешке выброшенные стреляные гильзы, обдул их, сунул в гнезда патронташа. Рукавом телогрейки любовно провел по стволам, потом перекинул ружье за спину, ощупал на поясе нож в деревянных ножнах. Глаза его слезились от азарта, он моргал, встряхивая головой.
— Язви их, состарились гляделки! — ворчал он, но весело, взвинченный ловкими выстрелами, удачей в самом начале охоты.
— А отошли-то от избушки всего ничего! — ликовал Котька, прыгая с переломленным ружьем. — Вот уж настреляем мяса! Дней-то впереди — ого-о!
Отец взял у него одностволку, с клацаньем сложил.
— Сплюнь три раза, не сглазить бы. — Он навесил ружье на плечо Котьке. — И запомни: когда пришло время стрелять, не суетись.
— Так в первый же раз, папаня!
— Вот и запомни. А сейчас коз надо в одно место стаскать. Ну, что губы распустил?.. Одну-то ты, однако, зацепил. Видал, как зигзагами после выстрела пошла? Я уж только дострелил. Так что — не горюй, твой трофей, так и запишем.
— Не запишем, — Котька набычился. — Не я завалил, значит, не моя.
— Тоже верно, — улыбнулся отец. — Еще добудешь. Главное — не суетись, говорю. Поймал на мушку — и веди стволом, веди, не останавливай, а курок поджимай, поджимай. Вот под ускок козий давни до конца, самый раз угодишь.
Косули были упитанные, каждая килограммов по двадцати пяти, а гуран на все тридцать. Его себе на ремень-волокушу привязал Осип Иванович. Котьке велел тащить инзыгана — годовалого козленка, самого маленького. В это время с увала долетел крик Удодова:
— Каво стрелили-и, мужики-и?!
— С по-олем, Филипп! — напрягая шею, прокричал отец. — Спускайтесь мясо тащщить!
— Но-о, перегуд вашу мать, как скоро! — поспешая к ним, еще издали радовался и завидовал Филипп Семенович. Ванька подкатил первым. Завистливо и вопросительно глядел то на коз, то на Котьку. Подскользил запыхавшийся Удодов, за руку, по-бригадирски, поздравил спарщика. По такому удачливому началу немедленно начали сворачивать по цигарке, в возбуждении сорили на снег бурой махрой. У того и другого дрожали руки.
— Значит, есть здесь козулька, есть! — обирая с усов ледышки, уверял себя Дымокур. — Сейчас бы распластать одну да печенку достать, свеженинки горячей отведать, а то уж и забывать стал, какая она на скус. Ребят тожить приучать надо. Печенка охотнику наипервейшая еда.
— Соли с собой не взяли, вот беда, — ответил Осип Иванович. — А без нее вывернет без привычки. Потерпим до зимовья, тут недалеко.
— Вот опущенье, так опущенье! — сокрушался Дымокур. — Давай, Ванюша, привязывай козишку — да порыскали к избушке. Ужинать с мясом будем, с мя-асом!
— По стратегии, — поддел Ванька. — А почо пять раз стреляли? И ты, Котька, стрелил?
Котька кивнул.
— А какая тут твоя? — Ванька затянул петлю на задних ногах козы, завистливо приузил глаза.
Котька отвернулся и, чтобы уйти от расспросов, поволок инзыгана по старой своей лыжне. Дымокур выпятил губу, покивал Осипу Ивановичу, мол, гордый парень, не хочет чужую удачу себе присваивать. Осип Иванович в ответ подмигнул, дескать, самолюбивый, это неплохо, свое добудет из упрямства.
Ванька понял их немой разговор и вслед Котьке обрадованно крикнул:
— Смазал, мазила!
Филипп Семенович дал ему подзатыльник.
— Почо смазал? Не угодил по первому разу. — Он погрозил Ваньке рукавицей. — Еще как себя покажешь, тогда и орать право заимеешь. Оболтус, оболтус и есть.
К Новому году надо было обязательно отвезти добытых коз в поселок, сдать в столовую. Филипп Семенович с Осипом Ивановичем были довольны: за неполную неделю настреляли девять косуль. Их туши, без шкур, облитые водой и замороженные, чтобы стужа не сушила мяса, не терялись бы килограммы, лежали штабелем у стены зимовья, чуть припорошенные снегом.
В последний день отличился Филипп Семенович. Пришел в зимовье поздно, совсем ночью, приволок двух коз на одной волокуше, да еще гурана зарыл в сумете за шесть верст от становья. Чтобы воронье или волки не растаскали добычу, срезал и ошкурил несколько прутьев, воткнул их в холмик: надежная охотничья придумка, никакой зверь не подойдет, а что его так пугает — объяснить трудно. Котька с Ванькой засмеялись, мол, останутся от гурана ножки да рожки.
— Не тронут, — заверил их Осип Иванович. — Вы еще много чего не знаете, вот и прислушивайтесь, в толк берите. Какие могут быть хаханьки? Проверено на опыте… Ты глянь, Филипп, хохочут! А над чем, дурачки? Над мудростью людской! И-эх!
Он махнул рукой, снял с проволоки над печкой портянки, стал отминать их. Дымокур, распустив на унтах сыромятные ремешки, сидел в мокрой от пота рубахе на чурбачке с кружкой густого чая. Поднося к губам кружку, далеко выпячивал губы, опасливо вшвыркивал кипяток и с каждым глотком прикрывал глаза.