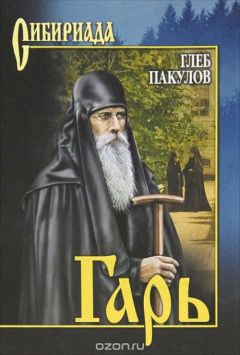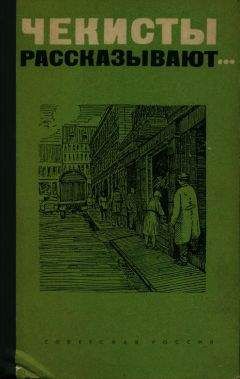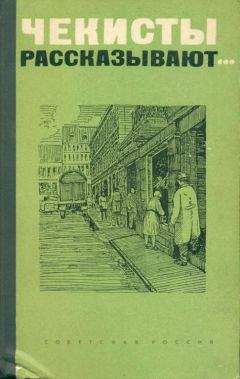Глеб Пакулов - Глубинка
Котька думал о Вике, как она там, где сейчас, с кем? Осип Иванович с Дымокуром и учителке наладили подарок. Такое дело обрадовало Котьку. Накануне, перед отъездом, они колдовали над мясом, рубили на куски и кусочки, вслух поминали самых нуждающихся, особенно тех, у кого ребятишки. И что поразило Котьку — Дымокур, сквернослов и ворчун, тоже оказался жалостливым. Отец — ладно, всегда готов помочь людям. Он и тогда, за ленка, ничего не сказал Котьке, только спросил, кому отдал, прижал Котькину голову к груди, похлопал ладонью по затылку. И все. Даже Нелька пикнуть не посмела, видела: отец одобрил его поступок, и мать головой кивает. А теперь и Филипп Семенович такой же, оказывается! Только жалость внутри спрятана для тихого и доброго дела, а сверху что — это не главное.
И отец, словно Котька обо всем этом вслух подумал, сказал в задумчивости:
— На земле доброты всего больше, сынок. Она да правда оберегают землю от зла. И теперь уберегут. Непобедимы они.
Он нежно глядел на елку, и в глазах его стояли маленькие свечечки. В печке потрескивали дрова, в зимовье пахло смолой от сомлевшей в жаре пихты, к этому запаху примешивался тряпичный дух чадящих фитилей. На печке заворчал чайник, плеснул из носка кипятком, крышечка задребезжала, съехала набок. Отец снял его, отломил от плитки чая кусочек, бросил в парную горловину. Двигался отец проворно, руки проделывали все быстро и ловко.
За эти дни на сытой пище Котька поздоровел, румянец заиграл на щеках. И Удодов с Ванькой, и Осип Иванович, хоть и уставали, оживились, поласковели, шуток стало больше проскакивать.
— Вот, будем чай пить по-таежному. — Отец поставил чайник на стол, подмигнул Котьке, дескать, посиди-ка пока. Вышел из зимовья и скоро вернулся. Руки держал за спиной.
— Тебе зайка подарок велел передать. Отгадай какой?
То, что отец делал подарок, как маленькому, обрадовало Котьку. Давным-давно было такое, пусть сегодня вернется старая сказка, он понимает, что его дурачат, но пусть. Однако что мог припасти отец? Нелька с матерью дарили конфеты, пряники, а отец всегда — не обязательно к Новому году, а просто, — возвращаясь с охоты, приносил ломтик замороженного хлебца. Ах, каким он был вкусным, тот хлеб, в общем-то обыкновенный, только поблескивающий на изломе инеем, от которого ноют зубы, но с привкусом таежных тайн, посланец из царства-государства дедушки-мороза. И, зная, что не ошибется, Котька с готовностью пошел на милый обман.
— Ломтик хлебца, на льдине печеного, ушканьими зубками точеного! — выкрикнул он, как когда-то.
Отец засмеялся, отчего усы-бабочки стали дыбом, а глаза исчезли в щелочках век.
— Про хлебец помнишь — молодец. Но не отгадал, — он поставил перед Котькой кружку, полную крупной, белесой от мороза клюквы. — Вот что на этот раз. На болоте под снегом нашарил. Целебная штука.
С тихой благодарностью отсыпал в горсть себе клюквы Котька. Несколько ягодин дробинами щелкнули о столешницу, раскатились. Отец быстро переловил их, бросил в рот. Котька катал клюкву во рту. От нее холодило язык, ломило небо, рот наполнялся кисло-сладкой влагой, от нее косило глаза, но все равно было вкусно и радостно.
Укладывались спать поздно, решили — выспаться: ночи длинные, светает поздно, хоть и повернуло солнце на лето, как говаривал Дымокур. Осип Иванович подбросил в печку на угли сырых березовых кругляков, чтобы не горели пламенем, а едва шаяли, поддерживали тепло в избушке. На широких нарах под козьим одеялом было куда как хорошо, однако к утру, если не вставать, не подживлять огонь, выстывало. Котька лежал, думал, что вот пройдет еще неделя, и все, кончится для него таежная благодать. Снова школа, звонки, переменки. Осип Иванович погасил свечи и забрался к Котьке на нары. В зимовье стало темно. Из дырочек в печной заслонке посверкивало, по стене прыгали оранжевые зайчики, скрипел оттаявший сверчок, убаюкивал. Отец всегда спал неслышно, без храпа, но тут к скрипу сверчка добавил носом тонюсенький свист.
— Ты чо? — Котька легонько потолкал отца.
Осип Иванович всхрапнул и проснулся.
— Норка свистит, пес ее знает почо, — проворчал он в скоро опять запосвистывал, но Котька уже не слышал — спал.
4
Филипп Семенович вернулся в зимовье пятого, а шестого он снова гнал лошадку назад в поселок. Решили, пусть Осип Иванович охотится, раз ему везет, а не теряет время в поездках. Вот и прикатил Удодов в поселок еще с четырьмя козьими тушами и привез домой Котьку.
Радовалась Ульяна Григорьевна возвращению сына, благодарила Филиппа Семеновича, поила чаем, уговаривала позвать Любаву и всем вместе встретить рождество. Дымокур сослался на Ванькину болезнь — как одного дома бросишь, — допил чайник, от второго отказался наотрез.
— А теперича не доржи! — решительно заявил он, влезая в тулуп. — Меня мои потеряли небось, а я еще не по всем адресам пробежал.
Подхватил мешок с приготовленными гостинцами, нахлобучил на блестевшую от пота голову лохматую шапку, поклонился.
— Уж ты, Ульяна, извиняй. Меня еще сколько чаю выдуть заставят? И так уж — во! — он хлопнул по животу. — Лопнет, ноги обварю, как плясать буду? Да и он того, чай-то… не водка, много не выпьешь.
— Рада бы, Филипп, бог видит — рада бы! — Ульяна Григорьевна поднесла фартук к губам, смотрела на Дымокура виновато. — И надо бы стопочку поднести, дак ведь нету, нету ведь, Филипп.
— Это я верю! — Дымокур ободряюще подмигнул, знал — нету магарыча, иначе бы не стояла вот так перед ним Ульяна. Еще раз подосвиданькался и заспешил по адресам — мясцом одарить, втайне надеясь, что уж у фельдшера ему что-нибудь обломится. Или Вальховская поднесет, есть, наверное, ведь в чем-то они фотокарточки полощут.
Проводив Дымокура, Ульяна Григорьевна поплакала легкими слезами, пока никто не видит. Котька, едва отогрелся с дороги, сразу убежал куда-то. У него свои дела, небось лапушка завелась или Ваньку проведать побег. Подумала было опалить козьи ножки, разварить, холодца приготовить, да какой холодец из таких сухобылок: косточки да копытца, небось и не застудится, гольная вода водой. Решила нажарить картошки, немного оладьев завернуть, а на первое мясца соломкой напластать, три-четыре картохи, мучки замесить — и бравые рванцы выйдут. Погнала с картофелины тонкую очистку. Тянется, виснет спиралью очистка и не выдержит, оборвется в плетенку, а за ней картошка беленькая с розовыми точечками глазков в кастрюлю с водой булькнет. Убитая параличом левая сторона лица Ульяны Григорьевны вроде мертва, даже глаз мигает редко и невпопад с другим, а правая сторона живет: жилка под глазом подрагивает, то угол рта зашевелится, когда Ульяна Григорьевна думы свои начнет вышептывать.
А думы разные, много их, и все тревожные, а из головы не выкинешь и от сердца не оторвешь — о детях они. Потому нет-нет да капнет слеза на руки: думы разные, а слезы одинаковые. О Сергее вспомянет — кап, кап. Письмо прислал, аккурат к Новому году поспело, жив, слава богу. И сразу, будто мостик перешла, на другой бережок ступила — о Константине задумалась, а сердце маятником мотнулось и резко — стоп! — словно кто в жменю сжал, трепещет на тонюсенькой прилипочке, вот-вот оборвется. Константин тоже письмо прислал — как всегда, коротенькое: «Жив, здоров, бью фрицев, Костя». Осип говорит — по-суворовски пишет. А почо по-суворовски-то? Ты матери по-сыновьи напиши, обстоятельно… И здоров ли? Буковки в письме, как заплот расшатанный, — туда-сюда туловки клонят: «Хожу по Саратову немножко поцарапанный». Вона как складно обряжает, да материнское сердце нешто обманешь! Чо таиться-то?.. Одно облегченье: не сулится домой — значит, легко повредили, а куда угодило, откуда кровиночку родную в сыру землицу выпустило — не обсказал. Зато другое письмо обозначил: «Капу чужой не считайте. Мы переписываемся, она для меня родной человек, В скором времени все будет, как мы с ней решили». Ох, сынок, сынок! Да станься по-твоему, вернись только.
И тут же другое на ум — Неля что-то долго ходит. Пошла Капу пригласить, и нет ее. А не хотела идти, потому и Катюшу с собой позвала. А пусть приведут. Когда и поговорить, как не в такой день. Глядишь, в Новом году все по-другому пойдет, по-ладному. Да и Косте угодить надо, напишет ему Капа. И на Капу поглядеть, может, высмотрит в ней такое, что один сынок высмотрел, а сама, старая, не способилась. А помнит, помнит, как они на свиданья друг к дружке бегали, гуляли до самого утра по малинникам береговым, а на лодке эвон куда ухлюпывали, не докричишься. Что у них за любовь была такая — бог ведает. Он ведает, да ведь люди судят!
Тяжело вздохнула Ульяна Григорьевна, вспомнив, как переступила любовь Костину, отпускную. Он незадолго перед войной приезжал в отпуск после окончания танкового училища. Статный, кудрявый, все на нем новенькое, в черных петлицах рдели костяникой-ягодой лейтенантские кубарьки. Такой бравый, да чтоб невесту себе путевую не отхватил? Что ты!.. Вот и порушила их согласье, за руки по сторонам развела. Негоже сынку с такой путаться, не зря же всякое о Капитолине по поселку раззванивали. Не ослушался Костя матери, уехал. А Капа ничего, не утопилась, не повесилась и вроде бы сердца на Ульяну Григорьевну не держала, при встрече, правда, не здоровалась. Скоренько за Павла-моряка выскочила, вместо Голубевой сделалась Поцелуевой. Куда как хорошо все обошлось. А тут война… Теперь заговорили о ней того тошнее: и вдовушка бесстыжая, раз положенное время себя не блюдет, мужа мертвого огорчает, и лахудра, коль дом запустила, сама ходит — от грязи ломится, пропащая…