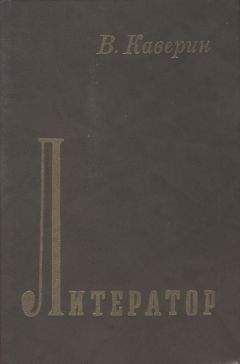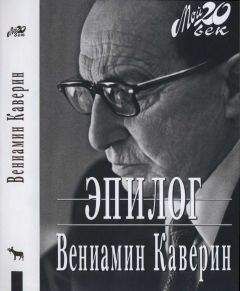Вениамин Каверин - Избранное
Так он нашел вторую строфу, — невозможно было выдумать ее, а написать ее мог только Пушкин.
Перебивая себя, путаясь, хватая Машеньку за руки и смеясь, потому что она смотрела на него с испугом, он в сквере у кино нашел и прочитал третью:
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
Он так орал и бесновался, что беспризорники, проживавшие в сквере, собрались вокруг, с профессиональным любопытством оценивая расположение его карманов.
Расположением пушкинских строк они гораздо меньше интересовались. Впрочем, один, в истлевшей рубахе, прислушавшись к стихам, сказал:
— Ага, ясно, эпигон Гумилева. — И ушел, презрительно зевнув и не глядя на Трубачевского, изумившегося до потери дыхания.
Вернувшись домой, он нашел четвертую и пятую строфы. Отец спал, он явился к нему, размахивая бумагами, и поднял с постели. Испуганно моргая, старый оркестрант слушал его. Беспорядок был налицо: ночью сын прыгал по комнате и читал стихи. Старик немного успокоился, узнав, что стихи написал Пушкин. Пушкин — это порядок. По уснул он все-таки с тяжелым чувством: сын был непохож на него — неаккуратность, торопливость, упрямство.
В десятом часу, умывшись до пояса холодной водой и принарядившись, то есть надев свой единственный темно-синий костюм, Трубачевский отправился к Бауэру. За ночь он не прилег ни на минуту, но чувствовал себя превосходно. И вообще все было превосходно, все, что он видел на небе и на земле. Десятый час, а солнце грело уже вовсю, как летом. На улицах было еще пустовато, но это-то и красиво. Нарядный мороженщик стоял подле чистой голубой тележки, нарядные милиционеры управляли движением. Небо тоже было голубое, и он впервые заметил, в какие разнообразные и приятные цвета перекрашены дома на проспекте Карла Либкнехта. Мостовая после наводнения 1924 года была выложена булыжником, а теперь булыжник сняли и заменили торцами, — это тоже было куда удобнее и приятнее. Во дворе дома № 26/28 мальчики молча разглядывали собаку, стоявшую среди них с грустным и виноватым выражением. Один погладил ее, и Трубачевский радостно улыбнулся, сам не зная почему, но, должно быть, потому, что у мальчика было доброе лицо — доброе и красивое, как все, что он видел перед собой в то утро.
Анна Филипповна открыла ему, но не сразу, а сперва накинув цепочку и поглядев на него через щель. Причесываясь, перед тем как зайти к Бауэру, он увидел ее в зеркале и, хотя она сердито бормотала себе под нос и нос висел уже не над верхней губой, а над нижней, нашел, что она все-таки симпатичная и в детстве, наверно, была красивой.
Потом он нащупал в боковом кармане листки с переписанным набело стихотворением и спросил, встал ли уже Сергей Иванович.
— Скажите ему, Анна Филипповна, что я пришел, — добавил он, не дожидаясь ответа. «Ну, поворачивайся, кот в сапогах», — радостно подумал он, когда старуха неторопливо пошла по коридору.
Она вернулась минуту спустя и сказала, что Сергей Иванович просит в архив. Трубачевский вынул листки и сейчас же положил их обратно. Сердце прыгнуло вверх, потом вниз, потом провалилось. А вдруг все вздор, и старик скажет, что вздор и совершенно неверно?
Дрожащей от волнения рукой он постучал в дверь, и голос Бауэра сказал:
— Войдите.
Трубачевский вошел.
Первое, что бросилось ему в глаза, когда, еще ничего не понимая, он остановился на пороге, были бумаги. Бумаг было очень много — кажется, гораздо больше, чем их было в этом архиве. Они лежали на столе, на окнах, на откидной доске пушкинского бюро, на полу и на стульях. Старик стоял среди этого разгрома спиной к нему и не сразу обернулся, когда открылась дверь, — только пригнулся ниже над столом, так что стала видна вся старческая, худая шея. Потом обернулся, посмотрел, сердито запахнул халат, и Трубачевский, несмотря на все волнение, успел заметить, как похож он сейчас на свою карикатуру — в ермолке, с повисшими унылыми усами.
— Ну? — спросил Бауэр сурово.
— Сергей Иванович, я… — начал Трубачевский и сбился. — Словом, вот…
Он вынул листки и протянул их Бауэру. Старик стал читать. Вдруг так тихо стало в архиве, что Трубачевский услышал, как стучит его сердце. Кто-то прошел наверху. На улице сказали громко. У него было такое чувство, что время остановилось и весь мир ждет, когда Бауэр кончит читать.
И Бауэр кончил наконец. Дойдя до последнего листка, он на минуту вернулся к первому. Потом поднял глаза.
Трубачевский перевел дыхание: глаза были веселые.
— Сергей Иванович…
Бауэр улыбнулся.
— Сергей Иванович! — отчаянно заорал Трубачевский.
— Разгадал, разгадал, — успокоительно сказал Бауэр и сморщил нос от удовольствия. — Разгадал. И, кажется, Жигалев насчет «Онегина» прав был, похоже. Ну, а теперь рассказывайте.
— Сергей Иванович… что рассказывать?
— Все. Только прежде воды выпейте, а то на вас лица нет.
Трубачевский выпил воды и рассказал. Он упомянул даже об этом сне, когда ему Машенька приснилась, и чуть было ее не назвал, вовремя спохватился:
— …одна знакомая, — и прибавил, покраснев: — Двоюродная сестра.
Бауэр добродушно выпятил под усами губы.
С карандашом в руках он слушал Трубачевского, бормоча про себя какие-то неожиданные слова, и всякий раз махал рукой, когда тот останавливался, думая, что это относится к нему. Он помолодел, легкая краска выступила на старых щеках.
— Декабристы, — пробормотал он, когда Трубачевский прочитал «Витийством резким знамениты» и т. д.
— Где декабристы? — закричал Трубачевский, но старик уже махнул рукой.
— Ну, тут один из вас наврал, — объявил он, когда Трубачевский указал на те строфы, из которых у него ничего не вышло. — Либо вы, либо Пушкин.
— Пушкин наврал, — с горячностью возразил Трубачевский.
Бауэр посмотрел исподлобья, очень серьезно. Потом засмеялся, и Трубачевский пустился хохотать вместе с ним.
— А почему шестнадцать? — спросил он, когда Трубачевский рассказал, каким способом были прочтены первые строфы.
— Просто шестнадцать. Шифр.
— Ну-ну? Так просто? А строф всего сколько?
— Тоже шестнадцать.
— Он сперва все первые строчки выписал, — сказал Бауэр и от удовольствия стал, как дети, громко дышать носом. — Подряд все первые, шестнадцать штук.
Потом все вторые, все третьи и так далее. Вот и выходит.
— Сергей Иванович, понял!
Так они сызнова рассмотрели всю рукопись. Они разглядели слова, помеченные одною начальною буквой, они нашли доказательства, что отрывок относится к десятой главе «Онегина», сожженной Пушкиным осенью тридцатого года.
Открытие было первостепенное: это была политическая история царствования Александра Первого, начиная с войны двенадцатого года и похода русской армии в Париж и кончая первыми встречами декабристов. И Трубачевский понял все значение того, что он сделал, когда старик, на минуту оторвавшись, взял его за плечи, потряс и, сказав: «Ну, поздравляю», — поцеловал прямо в губы.
Был уже третий час — Бауэра несколько раз просили к телефону, он все говорил, что занят, и Анна Филипповна дважды стучала, звала обедать, — когда они встали наконец. Они встали, и Бауэр вдруг помрачнел.
Опустив голову, он исподлобья обвел глазами архив — все эти груды бумаг, лежащие на полу, на столах, на окнах. Он как будто вспомнил о чем-то — и с такой неохотой!
И Трубачевский тихонько окликнул его — он не ответил.
И Трубачевский вдруг оробел. Открыв рот, он стоял подле своего учителя и не решался спросить, что случилось. Только теперь он вспомнил, как сурово Бауэр встретил его, это выражение недоверчивости и какого-то сердитого сожаления, с которым он обернулся, раздраженно запахнув халат. Весь архив был вынут из бюро, даже секретные ящики открыты настежь. Что это значит?
Прошло, должно быть, минут пять, прежде чем он решился спросить.
— Сергей Иванович, — нерешительно начал он, — вы что? Вы, кажется, искали что-то, когда я пришел. Или нет?
Бауэр сморщился.
— Мне тут одно письмо понадобилось, для цитаты. Стал искать — и нету. И тех бумаг, которые вместе с ним лежали, тоже нет. Целая пачка. Должно быть, перепутал и не туда положил. Найдется… Найдется, — успокоительно повторил он, видя, что Трубачевский взволнованно смотрит на него, — а теперь обедать пойдемте. Вой Анна Филипповна опять стучит.
Глава седьмая
Это были поиски себя, внимательные и неторопливые. Впервые с большой силой проявилась в Карташихине та память врожденного наблюдателя, благодаря которой он все запоминал, еще не зная, к чему это может пригодиться. Упорство, с которым он пробивался к самостоятельному пониманию людей и вещей, стало главной его чертою. Это сказалось во всем — и прежде всего в манере говорить и думать. Он был увлечен институтом, его людьми, интересами и делами и стал разговорчивее и общительнее, чем прежде. Но все чаще он притворялся равнодушным к тому, что его занимало, — так было легче думать. Он быстро усвоил грубовато-насмешливую манеру держаться, которая была почему-то принята среди комсомольцев, и она отлично помогала ему прятать застенчивость, — он еще был застенчив. Его считали хорошим товарищем, не очень способным и не очень умным. Он был одним из шести тысяч студентов Медицинского института — не больше и не меньше.