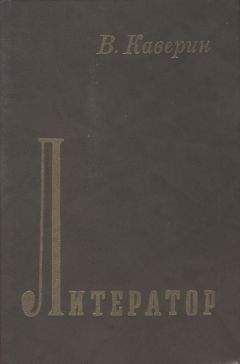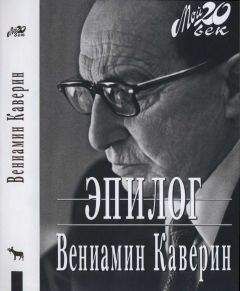Вениамин Каверин - Избранное
— Ладно, сегодня не будем спорить. Ты болен.
— Я здоров.
— Нет, ты болен.
Карташихин скинул пальто и встал с кровати. Он потянулся не без труда, потер ладонями лицо, согнул и разогнул руки.
— Ну, садись, — лениво и с угрозой сказал он и, сняв со стула книги, придвинул его к столу. — Я тебе сейчас покажу, как я болен.
Он поставил локоть на стол.
— Иди ты… знаешь куда?
Карташихин посмотрел исподлобья.
— Садись, — сказал он тихо, но таким голосом, что Трубачевский послушался и сел. — Давай руку.
Когда-то они увлекались этой игрой: нужно было поставить локоть на край стола, схватиться ладонь в ладонь и пригибать — чья рука сильнее.
— Честное слово, ошалел, — пробормотал Трубачевский и поставил локоть. Они взялись. Карташихин опустил голову. Волосы упали на лоб. Плечи поднялись. В глазах появился злобный оттенок, и разрез их стал длинный и узкий. Такая сила вдруг стала видна во всей его согнутой, напряженной фигуре, что Трубачевский и рассердился и растерялся. Рука его гнулась. Он задержал дыхание, сердце остановилось. Но было уже поздно. Карташихин пристукнул к столу его руку и встал.
— Ты сжулил, локоть не так поставил, — с досадой сказал Трубачевский.
— Давай еще раз.
— Нет, к черту. Я пойду.
Он был уже в прихожей, и Матвей Ионыч, значительно хмуря брови и все собираясь что-то, спросить, провожал его, когда Карташихин выглянул из дверей.
— Коля, иди-ка сюда, — сказал он. — На минутку.
Трубачевский вернулся.
— Послушай, куда ты пропал в тот вечер — помнишь, когда мы были в баре? Мы тебя не дождались.
— Не дождались! Я вернулся через десять минут.
— Мы решили, что ты пойдешь ее провожать, — равнодушно сказал Карташихин.
— Да я и пошел. И просидел у нее до утра, — самодовольно, и чувствуя, что самодовольно, отвечал Трубачевский.
Карташихин неловко усмехнулся. Он хотел, кажется, сказать что-то, и Трубачевский невольно подался к нему… Но все уже пропало.
Они простились, и огорченный, рассерженный Трубачевский сбежал с лестницы и через дворы-коридоры вышел на улицу Красных зорь.
7Ему не хотелось возвращаться домой, и он стал бродить по улицам с тем чувством неопределенного волнения и ожидания, которое все чаще являлось, когда он оставался один.
Люди проходили мимо него, разговаривая и смеясь, трамваи были переполнены, газетчик пел ломающимся мальчишеским голосом: «Вечерняя Красная газета!» Автомобиль остановился у ворот, и полный человек с портфелем, в полувоенном костюме, вышел из него и властным голосом что-то сказал шоферу.
Трубачевский шел и думал, все замечая вокруг и не переставая следить за собою. Что мог он сделать в этом городе и в этой стране? Миллион домов — и в каждом сотни и тысячи людей со своими желаниями, воспоминаниями и страстями. И только в двух или трех знают о том, что он существует на свете.
— Слава… — Он шепотом произнес это слово.
На мосту Равенства он остановился и стал смотреть на Неву.
Вечернее небо отражалось в воде и плыло к Петропавловской крепости, переливаясь на низких волнах. Дул легкий ветер. Ломовики везли лед, он лежал на подводах, голубой и расколотый, похожий на большие кристаллы. Высокие серые камни лежали на набережной, по левую руку от Института мозга, и между ними проложены к Неве узкие рельсы — здесь начинали строить. Пароход подошел к мосту, и матрос, стоявший на корме, потянув за железный стержень, вдруг опустил трубу, и круглый черный дым стал выходить снизу.
Все было так просто, что ему захотелось заплакать. Четверостишие, которое он сложил из бессмысленных строк пушкинского стихотворения, вспомнилось ему. Он прочитал его вслух — не очень громко, но так, что проходившие мимо школьники обернулись и засмеялись.
Сей всадник, папою венчанный,
Исчезнувший, как тень зари,
Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Пред кем унизились цари.
Слова были торжественные, полные значения, он дважды повторил их.
Он простоял на мосту так долго, что сторож, сидевший на треножке подле своей будки и терпеливо следивший за ним, встал наконец, заподозрив, что он собрался топиться. Эта мысль рассмешила Трубачевского. Как бы не так! Он быстро отошел от перил.
Сильный юноша с мечом — памятник Суворову — стал виден, когда Трубачевский спустился с моста. Здесь они шли с Варварой Николаевной, и он был страшно глуп, стараясь показать, как много он читал и как много знает. Они простились подле этого памятника. Она сказала, что они еще встретятся. И они встретились: в японском халате она разливала чай, рукава были откинуты, и руки, полные и прямые, видны до плеч.
У него пересохло во рту и сердце забилось.
Медленно пройдя между могилами Марсова поля, он сел на скамейку и, откинувшись, скрестив ноги, стал следить за каждой женщиной, проходившей мимо. Он думал о них с ненавистью. Он ругал их. Впрочем, он сам виноват; другие решают это дело в пять минут, а он на одни только размышления тратит целые ночи.
На скамейке, шагах в двадцати от него, сидел военмор и рядом с ним девушка, курносая и неуклюжая, в красном платочке, из-под которого виднелись прямые, соломенные волосы. Они говорили тихо, потом поцеловались, и она отстранилась, покраснев, нахмурившись от счастья.
Трубачевский вскочил. А что, если пойти к ней сейчас? Он сбросил на руку макинтош, одернул пиджак, подтянул галстук.
В смятении, которого он заранее стеснялся, он в несколько минут пролетел Пантелеймоновскую и, пройдя проспект Володарского, остановился подле ее дома, С мрачно-рассеянным видом он довольно долго простоял у подъезда. Подъезд был обыкновенный — две каменные ступени и дверь, которая, как все двери, открывалась и закрывалась. Вот толстяк распахнул ее и с детской важностью прошел мимо. Старуха несла в каждой руке по бидону с керосином и остановилась, поставила бидоны на ступень, чтобы передохнуть и поправить платок, сбившийся набок.
Поднимаясь по лестнице, он вытер о пиджак потные руки. Это было как во сне, и желание — как во сне, но такое, что нельзя ни повернуть назад, ни передумать.
Старомодный звонок, черная груша на металлическом стержне, висел у ее двери. Он посмотрел на звонок туманными от волнения глазами. Прошла минута, может быть две, прежде чем он решился. Он услышал звон, приглушенный и далекий, и через несколько долгих мгновений — шаги. Дверь распахнулась.
— Варвара Николаевна дома?
— Нету.
— Передайте ей, пожалуйста, что был Трубачевский.
Спускаясь по лестнице, он еще волновался. Но с каждой минутой на душе становилось легче. К своему удивлению, он был рад, что ее не оказалось дома. Когда он вышел на улицу, ему даже есть захотелось.
В пивной на проспекте Володарского он съел бутерброд с сыром и выпил маленькую кружку портера. Равнодушный продавец бросил сдачу на мокрую жесть прилавка. Трубачевский выбрал гривенник и спросил, где автомат.
Он нашел автомат в маленьком коридоре, который соединял уборную с кухней и вонял той и другой. Пьяные голоса доносились из общего зала, и он несколько раз ошибся, думая, что это отвечает станция.
Наконец он назвал номер.
Двое пьяных прошли в уборную за его спиной. Он закрыл свободное ухо ладонью, «…вот ты на меня подожрение взял, ты меня с Октябрьского вокзала до Кирочной подожревал, что я без билета еду».
Мужской голос ответил наконец. Так шумно было, что Трубачевский не разобрал, кто говорит — старик или Дмитрий.
— Можно Марию Сергеевну?
Голос ответил, что можно, и он снова стал ждать, терпеливо и почти волнуясь. Вода лилась в уборной, пьяный голос говорил: «…подожрение, подожрение…»
И вот, измененный телефоном, знакомый и милый голос донесся до Трубачевского через этот шум, потрескивание аппарата и далекое радио, выстукивавшее где-то в глубине сигналы по азбуке Морзе.
— Мария Сергеевна, это Трубачевский. — Он повторил по слогам: — Тру-ба-чевский. Вы сегодня свободны? Пойдемте в кино. В «Солейле» идет «Парижанка».
Он выслушал в ответ длинную речь, из которой с трудом разобрал две-три фразы: завтра зачет по сопротивлению материалов, придется сидеть всю ночь, и самое печальное, что одной, потому что Танька заболела. Прошла ли у него меланхолия? Правда ли, что в «Парижанке» играет Чаплин? Дима видел и говорил, что нет. Очень хочется посмотреть, но завтра на зачете она пролетит, как пуля.
— Ну, пожалуйста, приходите, — грустно сказал Трубачевский.
Три минуты кончились, он позвонил снова. И они сговорились наконец: в половине одиннадцатого, у левой билетерши.
До половины одиннадцатого был еще целый час.
Трубачевский почистил ботинки и поговорил с чистильщиком насчет заработка и погоды. Погода была хорошая, заработок плохой.