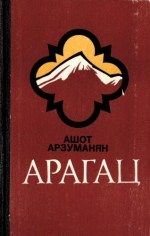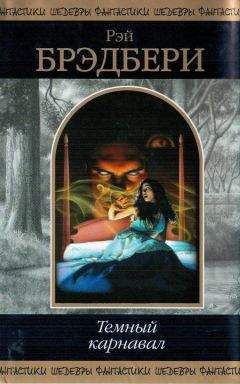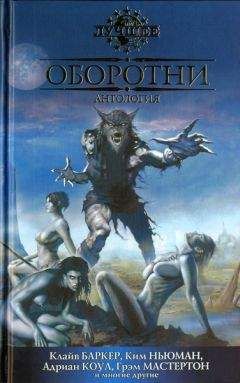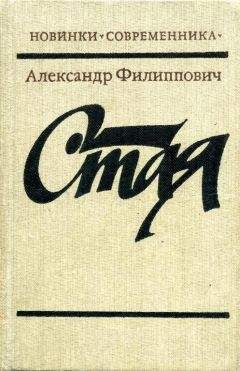Ихил Шрайбман - Далее...
За такими черными мальчишескими мыслями и застал меня Хона Одесский. Он сразу увидел потрепанную книгу на топчанчике, полистал ее и усмехнулся:
— Пятикнижие изучаешь?
— Я лежу, как Иосиф в яме, — ответил я ему тоже с усмешкой, — с меня сорвали шелковую рубашку.
— Не спеши, — сказал Хона Одесский, — не накликай беду раньше времени.
Он оглядел меня. У меня, наверно, был тот еще вид. Небритый, помятый, сгорбившийся. Потом он оглядел заднюю комнату, где нашел меня. Подошел к окну и вслушался в тишину во дворе. Затем уселся на топчанчик, спросил: «Что случилось?» — и велел мне рассказывать с самого начала, подробно, со всеми мелочами.
Я говорил, а Хона Одесский закурил цигарку, вставил, как обычно, цигарку в мундштучок, попыхивал ею все время, зажмурив один глаз, слезящийся от дыма, будто он только что первый раз закурил, будто цигарка эта была первая цигарка в его жизни.
Я долго рассказывал, и Хона Одесский ни разу меня не перебил. Когда я закончил, он задумался на миг и сказал:
— Геройством это все, разумеется, не назовешь. Трусостью, однако, тоже. Так что же это, а?
— Судьба, — ответил я.
— Э, не спеши. В нашем возрасте, и уже судьба?
— Я делал то, что мне велели. То ли мне правильно велели, то ли неправильно велели, не знаю. Но я готов и дальше делать то, что мне велят. Поэтому, такой растерянный, я и пришел сюда, домой, к своим товарищам, которые знают меня всю жизнь. Не могу же я так и остаться висеть в воздухе…
Хона снова оглядел комнату, глянул на окно, что выходит в тихий переулок, и минуту спустя сказал:
— Ну, будь пока тут. Думаю, ничего не случится. Жди. Распутается. Мне сюда ходить, ты ж понимаешь, нельзя. К тебе будет заходить наш товарищ. Могу тебе даже сразу сказать кто. Фейге Шпринц. Делать что-то больше я не могу. Мне ж нужны для этого инструкции…
Хоне Одесскому в одной из предыдущих глав я поставил памятник. Памятник ему причитается. И за то, что он погиб в Кодыме, поднимая народ против фашистов, и вообще за все, еще до Кодымы. Но слово это «ин-струк-ции» тогда, в моей комнате, высыпалось из его рта, как горсть камней. Откуда у такого хорошего парня взялась такая сухость, такая жесткость?
Почти сразу Хона Одесский спросил меня:
— Послушай, ты еще пишешь? Пишешь еще на карманчике?
На мое бумагомарание Хона всегда смотрел свысока. Кому нужно это стихоплетство? Куда я прусь со своей писаниной? «Еще пишешь на карманчике?» — это была постоянная Хонина шутка, он все годы любил донимать меня ею. Когда мы, еще малышами, ходили вместе во второй класс румынской «шкоалэ примарэ», однажды у одного ученика из пенала украли целых три лея, которые ему дала его мама, чтобы он купил себе ручку и тетрадку. Мальчик плакал, а учитель наш кричал, приказал классу встать, угрожал, что если вор сейчас же не выйдет к доске сам и сам не сознается, то весь класс так и будет стоять на ногах, пока вора не найдут. Мне показалось, что на слове «вора» учитель посмотрел на меня, и я опустил глаза. Этого учителю было достаточно. Он велел мне выйти к нему с сумкой и перед всем классом стал меня обыскивать. Я тогда ходил одетым в тужурку с двумя накладными верхними карманчиками. Учитель искал, перевернул мою сумку вверх дном, а я стоял с надутыми губами и вдруг пальцем начал что-то писать, и писать на клапане своего карманчика, выписал на карманчике всю боль и всю обиду этого напрасного подозрения… Когда Хона уже учился в гимназии и мы иногда встречались, он любил подшучивать: «Еще пишешь на карманчике?» Когда через пару лет я прочел ему свои стихи, он тоже не удержался: «Ну, да, ты ведь еще в первом классе писал на карманчике». Сейчас же он вовсе не шутил. Он спросил меня об этом вполне серьезно.
— Пиши, пиши, если ты еще пишешь, — сказал он еще серьезнее, — здесь лучшее место и лучшее время. Это тоже дело… Для нас…
Я молчал. Я ему не ответил. Горсть камней отняла у меня речь и придавила меня. Как будто понесшие лошади промчали по мне только что тяжелую подводу. Мой товарищ стоит рядом, но поднять он меня не поднимает, протянуть руку он не протягивает, ему нужны для этого инструкции.
3Весь день я обшагивал две пустые комнатки наши от стены до стены. На переднем окне, что выходит на улицу, в переулок с колодцем, ставни были прикрыты. Два задних, дворовых окна я завесил мешками. Я залез на чердак, просто так залез, просто послушать на чердаке, как шумит местечко. Я спустился через лаз на кухне в подвал, сложил раскиданные поленья дров, подмел кучки семечковой шелухи, что, наверно, оставили после себя мыши, схрумкав ядрышки семечек. Когда стемнело, я вышел во двор, тихо уселся на дверь погреба, сидел до поздней ночи. Ложиться спать мне не хотелось, да и не мог я спать.
Так было первые два дня. Был я тогда дома целый месяц. Последний летний месяц.
На третий день Хона Одесский прислал мне с Фейге Шпринц несколько книжек. Том Переца, два тома «Жан-Кристофа», Н. Огнева «Дневник Кости Рябцева», Ремарка «На Западном фронте без перемен», «Лес повешенных» Ливиу Ребряну — книги и на идиш, и на румынском.
Я зачитывался до опьянения. Почти все это я уже раньше читал. Но сейчас читал я как заново, читал сейчас иначе. Фейге Шпринц в первый раз сидела у меня не больше, чем несколько минут. Потом она стала сидеть дольше, потом она просиживала со мной целые часы. Она заходила ко мне каждый день, все дни до единого, сколько я тогда был в Рашкове.
Мы читали вместе. То есть я читал вслух, а она слушала. Я полусидел-полулежал на земле на расстеленном старом бурнусе, опершись локтем о закатанную постель. Фейге сидела рядом. Я читал, а она и вслушивалась в то, что я читаю, и вглядывалась своими большими, всегда блестящими, будто влажными, глазами, как я читаю.
Фейге Шпринц прибрала в доме, сбрызнула водой «полы» и подмела их, вытерла тряпкой пыль, паутину по углам, однажды принялась даже вытирать запыленные стекла. С Фейге Шпринц вошли в мое «укрытие» свежесть, живость, девичья нежность, сочувствие, понимание, преданность. И еще что-то такое особенное, что не имеет названия и что очень быстро и во мне вызвало что-то такое, для чего точного названия у меня пока еще не было. О Фейге Шпринц я больше расскажу чуть позже, особо.
Когда я сейчас, во второй раз, читал Переца, Ромен Роллана, Ремарка, видел повешенных в лесу восставших крестьян у Ребряну, мне как-то само собой, где-то в подсознании, наверно, одновременно с чтением писалось. Как я мог делать такие два дела вместе, в одно время? Прочитанные картины и мысли, людские судьбы, споры, потрясения, радости и разочарования, победы и поражения, жизнь, смерть, ум, красота — все это на меня в моем тогдашнем состоянии так, наверно, действовало, тревожило во мне столько струн, что отозвались глубоко в подсознании, как далекие голоса и отголоски, строки. Другие строки. Мои строки. Я тогда, помню, не отдавал себе отчета, что нечто такое происходит. Объясняю я это так лишь сейчас. Сейчас, когда я уже знаю немножко, как читается, когда читается вкусно, до опьянения.
Я закрыл книгу, а строки писались дальше сами. Я писал их не пером и не на бумаге. Только мысленно. В голове. А может, надо еще сказать — в сердце.
Я писал, разумеется, не потому, что Хона Одесский велел мне это делать, дал мне на это свое согласие. И даже не потому, что мне велели это делать два босых мальчугана с двумя своими ржавыми обручами, — в переулке у колодца.
Об этом я должен рассказать, хоть, наверное, это ерунда. Однажды днем я вдруг услышал на улице, возле колодца, знакомую мелодию, знакомые слова. Я кинулся к окну, отпер ставни и обомлел. Я стоял и смотрел в щель, как два босых рашковских мальчика катят согнутым куском проволоки два больших ржавых обруча от бочки. И, между прочим, напевают себе двумя тонкими писклявыми голосочками. Маленькие детские спинки их удаляются, издали доносятся уже только одни лишь отголоски.
Сам же я босой сижу,
Я, чистильщик Шае…
Я пережил такую же радость, как чеховский герой, когда он имя свое, из-за какого-то пустяка, увидел напечатанным в газете. Но это была радость. Честное слово, была. Чистая радость, первая радость.
О чем я писал? Не о собственном состоянии, разумеется. Я еще тогда не мог знать, что писать, любым из сотен способов, это всегда и прежде всего исповедь. И через эту собственную исповедь о чем-то предупредить мир, не дать ему повторить твои или героя твоего ошибки, подсказать ему твои или героя твоего удачи — грубо говоря. Рассказать о твоем далее и сказать тому, кто слышит тебя: далее! Грубо говоря.
Я, наверно, писал неуклюже и наивно. (Я еще говорю «наверно».) Как начинающий. Даже как еще предначинающий. Я не помню ни одной строки. Я эти строки не записывал. А те, что записывал, — потом порвал. Сейчас было бы как раз таки любопытно взглянуть. Если б кто-нибудь нашел вдруг в преклонные годы свою первую школьную тетрадь, где он калякал кружочки и палочки, разве не было б это для него найденным кладом?