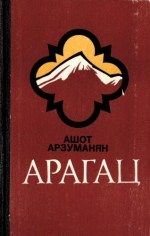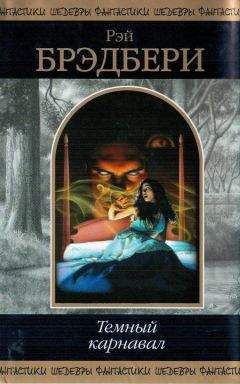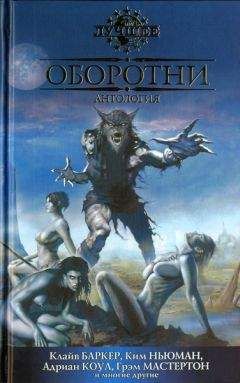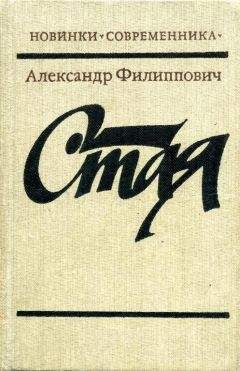Ихил Шрайбман - Далее...
О чем я писал? Не о собственном состоянии, разумеется. Я еще тогда не мог знать, что писать, любым из сотен способов, это всегда и прежде всего исповедь. И через эту собственную исповедь о чем-то предупредить мир, не дать ему повторить твои или героя твоего ошибки, подсказать ему твои или героя твоего удачи — грубо говоря. Рассказать о твоем далее и сказать тому, кто слышит тебя: далее! Грубо говоря.
Я, наверно, писал неуклюже и наивно. (Я еще говорю «наверно».) Как начинающий. Даже как еще предначинающий. Я не помню ни одной строки. Я эти строки не записывал. А те, что записывал, — потом порвал. Сейчас было бы как раз таки любопытно взглянуть. Если б кто-нибудь нашел вдруг в преклонные годы свою первую школьную тетрадь, где он калякал кружочки и палочки, разве не было б это для него найденным кладом?
Вещь свою, помню, я назвал «Глаза». Такой антивоенный монолог в стихах. Слово «война» уже в то время, точно так же, как и до того времени, точно так же, как и после того времени, витало всюду в воздухе, как вечное проклятие, преследующее человека еще со времен Адама и Каина. Монолог-крик солдата, который в окопах потерял глаза и лишь теперь, ослепнув, стал видеть.
Я написал стихотворение о смерти моей тети Иты. Длинное жалостливое стихотворение, помню, в стиле тех длинных песен, что нищие поют по дворам. Стихотворению я дал красивое название: народная баллада. Тетя Ита моя замуж не вышла, умерла в молодости старой девой. Она жила с бабушкой Ентой в низеньком домике, таком низеньком, что маленькая бабушка Ента чуть не касалась головой потолка. Наверху, в углу, как икона, висело тети Иты девичье зеркало с ржавыми пятнами. Висело так наклонно, что я всегда видел себя в нем вверх ногами. Бабушки Ентино кухонное окошечко выходило в конюшню, которую поставил там добрый сосед после смерти дедушки Зусие. И вся «панорама» бабушки Енты и тети Иты состояла из длинного корыта и лошадиного зада, что стоит и гадит прямо на стекла. Тетя Ита любила читать книжки Шомера[9]. Она находила в них, наверно, искру надежды, что на земле могут случаться чудеса, из пастуха может получиться король, из бедняка — богач, из грязи да в князи. После смерти дедушки Зусие бабушка Ента и тетя Ита сидели обе, согнутые над ситом, чистили для богачей перья, белые легкие перышки летали по домику, как снежинки, покрывали обеим головы, и бабушка Ента с тетей Итой выглядели обе как одинаковые белые сказочные старушки. Тетя Ита умерла в рашковской «казенной» больнице от тифа. Ее выдали в заколоченном гробу, обмазанном смолой и побрызганном карболкой. Никому к покойнице нельзя было прикасаться. На похоронах отец мой один нес гроб на спине, а родственники шли сзади, чуть поодаль. Отец шагал, согнувшись, с гробом на спине в гору на кладбище, как сам распятый с тяжелым крестом на себе. Вот-вот он сам себя пригвоздит наверху к этому кресту.
Я написал стихотворение о нашей большой, вожделенной стране, что лежит так близко, на той стороне Днестра, руку протянуть, но из-за плохих людей, назвавших Днестр границей, так далека от нас.
И я написал стихи о любимой девушке. Эта девушка ушла от родителей, бросила гимназию, махнула рукой на благополучие, вырвала из себя собственное сердце и несет его в руке, как факел, к обиженным и отверженным. Этой девушке я выразил всю тоску и всю нежность, что были во мне тогда. Эта девушка была не Цейтл, из-за которой в тринадцать лет я аж заболел от любви. Не Женя, возле которой за одно короткое лето я вырос на несколько лет. И даже не Малия — примечтавшаяся, может, и вовсе придуманная, исчезнувшая Дульцинея моя.
Кто же была эта девушка?
4Биография Фейге Шпринц.
Пока еще совсем короткая. Пока еще достаточно для нее несколько строчек, не больше. В одной деревне жил еврей со своей женой и с тремя дочерьми. Еврей — силач. И как хороший пловец, бывает иногда, тонет, так бывает, что человек сильный умирает иногда до времени, не своей смертью. Однажды ночью в дом к этому деревенскому еврею залезли грабители, обобрали его, он ринулся свое добро защищать, и они его убили. Немного спустя, от горя, покинула мир и его жена. Трех сирот и оставшееся немудреное хозяйство поделили между собой рашковские родственники. Фейге среди сестричек была самой маленькой.
Она воспитывалась у бабушки, потом у тети, потом у другой тети, потом у старшей сестры, которая вышла уже тогда замуж. Она столько настрадалась и столько натерпелась, что на все это не хватило бы и тысячи строк. Но тем не менее так, в такой обстановке, она закончила рашковскую четырехклассную гимназию, «шкоалэ медие», как она называлась. Так она сняла себе угол у какой-то старушки, жила тем, что помогала учиться деткам с «трудными головками», которым кроме учителя в школе нужно было дома еще иметь репетитора. И вот так она постепенно прибилась к нашей компании.
Как выглядела Фейге Шпринц.
Откуда у такой, можно сказать, набедовавшейся девочки взялось столько обаяния, столько яркости, столько влекущей девичьей женственности? От нее веяло, казалось мне, лесной свежестью вымытой дождем листвы и только что скошенной травой. В ее лице я видел смесь деревенской простоты и местечковой наивности. У нее были прямые черные волосы, она всегда носила их расчесанными, рассыпанными по плечам. Рот у нее был широковат, губы — довольно-таки полные, зубы — какой-то особой белизны. Из ее глаз, всегда влажных, блестящих, постоянно выглядывали и удивление, и доброта, и смущение, и любопытство. Была ли она красивой? Мне в те дни мои казалось — самая красивая, такой красивой девушки я еще не видел.
Выцветшая гимназическая форма, которую она еще надевала иногда в будни, сидела на ней в обтяжку. Она выросла из формы. Колени ее были наполовину открыты, где-то под мышкой бросался в глаза лопнувший шов. Она больше носила белую кофточку без рукавов. Обнаженные руки ее были загорелые, блестели черно-коричневым зеркальным глянцем. Как и лицо ее. Как ее загорелая шея, окаймленная белым вырезом кофточки.
И кроме всего этого, у нее была совершенно особенная улыбка. Улыбка, какую даже и описать невозможно. Когда она улыбалась, я никогда не знал, улыбаются ли это глаза ее, рот, полные губы, все ее лицо, волосы на плечах, шея, руки, или что-то такое, что витает около нее, вокруг нее, и пока оно не улыбнется, его и не видно, а имени ему вовсе нет.
Нежность Фейге Шпринц.
Нежность или доброта. Среди нас тогда оба эти слова были не в моде. Больше воспитывали в себе жесткость, колючесть, непримиримость. Чтобы иметь силы сопротивляться миру со всеми его обидами и несправедливостями, чтобы суметь разрушить старый мир. То, что называют нежностью, носили пока в себе, где-то в потаенных уголках души, держали припрятанным до того счастливого времени, когда все надо будет строить заново. У нее же этого было столько, что оно било через край, вырывалось из тайников. Точно так же, как женственность ее выпирала из лопнувших швов ставшей тесной гимназической формы.
Она просиживала со мной часами, говорила и говорила, все утешала меня. Я ни разу не слышал от нее ни одного колкого слова. Ей не мешали мои странности. Сам я терпеть не мог свою расхлябанность, рассеянность, расписывание своего незавидного положения еще больше, чем оно есть, она же из всех этих недостатков выводила достоинства. Когда на меня вдруг нападала молчаливость, она тоже сидела передо мной без слов, ласкала меня одним лишь взглядом. Как если бы она сидела, не приведи бог, возле больного, которого надо лечить только тишиной и только уверенностью во взгляде, что он выздоровеет.
И в часы, когда мы вместе читали — я читал, а она слушала, — меня тоже ласкали ее всегда сияющие влажным блеском глаза. Вокруг лица ее восхищенно витала ее особая улыбка. Не столько от того, ч т о я читаю, сколько от восторженного звона моего голоса, от того, как восхищаюсь я сам тем, что читаю.
А когда я в первый раз прочел ей свои собственные стихи, которые, наверно, гроша ломаного не стоили, глаза ее вообще наполнились до краев, и мелькнули в них и удивление, и любопытство, и смущение, и счастье. Как будто она удостоилась чести, чтобы стоял перед ней и читал свои собственные произведения по меньшей мере величайший поэт мира.
Как мне это назвать: нежность или просто доброта?
Необыкновенность Фейге Шпринц.
Она и Малия — они были совершенно разные. Малия называла меня «мальчик», она взяла меня за руку, и впрямь как берут за руку мальчика, и повела меня за собой, за собой вверх, в ее таинственный мир, в который я стремился, — повела по ступенькам. И я всегда знал, что она была наверху, а я — внизу. Ступеньки между нами остались навсегда. Малия была полна таинственности, и таинственность эту не могла передо мной раскрыть. Малия была только видением, только мечтой моей. Мою влюбленность она приняла, даже кивая головой, что, дескать, она в меня тоже влюблена, — чтобы глубже затащить меня в свой мир, чтобы я сильнее любил то, что любит она. Малия бредила своей романтикой подполья, любила часто говорить об этом таинственными намеками, в подпольные дела свои уходила с головой, жила ими каждый час и каждый миг круглые сутки. Малия вообще была само видение, сама мечта. И, как приснившийся мне красивый сон, она быстро исчезла. Исчезла, оставив во мне одну лишь тоску, одно лишь послесонье.