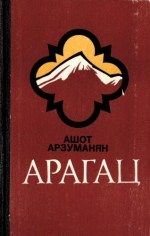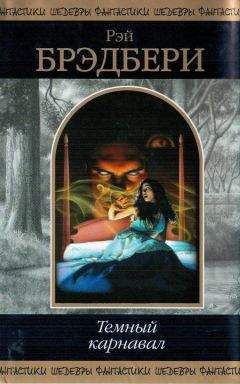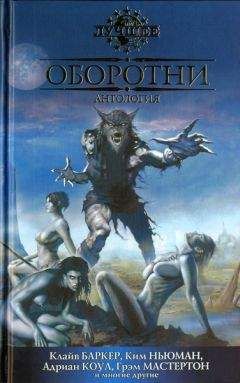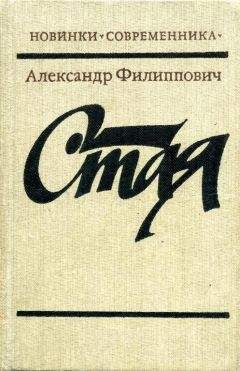Ихил Шрайбман - Далее...

Обзор книги Ихил Шрайбман - Далее...
Далее...
ДАЛЕЕ…
Роман
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Камера в тюрьме, где я сидел, была несуразно высокой комнатой, холодной и облупленной, и носила, помню, номер сорок два.
Маленькое окошечко, крест-накрест зарешеченное, на самом-самом верху, прямо у потолка. Чтобы что-то увидеть через пару запыленно-грязных стеклышек, надо было встать кому-нибудь на плечи, вытянуться, повиснуть, держась обеими руками за прутья решетки, потом подтянуться, уцепиться подбородком за каменный подоконник, и тогда, после всего, — голый угол крыши с двумя или тремя узкими железными дымоходами, внизу — кусочек тюремного дворика среди четырех стен с бессчетным количеством таких же крест-накрест зарешеченных окошечек, сверху — горсть неба, иногда пепельно-хмурого, низко висящего над головой, иногда, наоборот, как назло, пронизанного синим светом, подзолоченного, открыто-прозрачного, как стекло, далекого-далекого, глубокого-глубокого, уходящего куда-то в бесконечность.
У стены камеры — во всю длину стены, от одного конца до другого — стоял такой деревянный топчан, нары. Там мы все, двадцать восемь заключенных, спали. Спали все поперек нар, головой к стене, стиснутые, обнявшиеся, прижатые друг к другу, разумеется, не на спине, только на боку; если кто-нибудь ночью сползал по своим делам, он уже еле-еле мог втиснуться обратно на свое место.
Около нар — посреди камеры, можно сказать, стоял старый изрезанный стол.
За столом народ ел, брился, заглядывал в книжки, вел дискуссии, совещался, каждый час дня имел свой смысл.
По всей поверхности стола были выцарапаны (гвоздем или даже ножиком), выжжены (огоньком свечи, сигаретой, а может, спичкой) или просто выведены чернилами, химическим карандашом имена и фамилии, инициалы, буквы — готическо-немецкие, латинско-румынские, славянские, еврейские. Столу, видимо, было уже порядочно лет. Он пережил поколения. Видел десятки необычных лиц. Слышал сотни тайных бесед. Стол из простых, даже толком не обструганных досок. Простой деревянный тюремный стол.
В углу, возле тяжелой двери со стальным засовом снаружи, с круглым глазком посередине, через который заглядывать к нам надзиратели могли, а мы выглядывать — нет, стояла огороженная чем-то вроде полустенки или заборчика параша. Каждый день два человека выносили ее, висящую на палке между их плечами.
Вся стена напротив нар была пустой. (Чуть не сказал «свободной».) Там арестованные должны были выстраиваться с сорванными шапками в руках, когда в камеру вдруг заявлялось тюремное начальство. Наши, однако, за мое время никогда у этой стенки не выстраивались и шапок никогда ни перед кем не сдергивали. Это было уже отвоевано раньше. Не легко, но отвоевано. И за мое время я не помню, чтобы начальство заявилось когда-нибудь в камеру. Оно просто, наверно, боялось себя уронить. Это ж надо потерять к себе всякое уважение, чтобы войти к преступникам со своей свитой, со всякими там блескучими погонами, в аксельбантах, при оружии, при полном параде, а каждый преступник в отдельности чтобы остался хладнокровно сидеть там, где он сидит, делал и дальше то, что делал, не поднял глаза и не сдвинулся с места как ни в чем не бывало.
В камере стояла, тем не менее, одна человеческая кровать тоже. Узкая железная кровать с кряхтящей проволочной сеткой, с матрацем, даже с простыней, с жестким солдатским одеялом, с подушечкой в головах — стояла она у стенки напротив двери под зарешеченным оконцем.
На этой единственной железной кровати спал старый Вестлер.
В черновицком движении был еще один Вестлер — молодой Вестлер. Его я знал. У меня даже один раз была с ним встреча. О старом Вестлере я только слышал. Само имя: «Старый Вестлер» ходило как легенда. И вот сижу я со старым Вестлером в одной камере. Под одной крышей. Изо дня в день с ним вместе. Знаю его. Вижу его. Разговариваю с ним. Говорю ему даже «ты». Как все товарищи говорят ему. Как вообще говорят друг другу товарищи, без разницы, что один старше, а другой моложе, знакомы давно или только что познакомились.
Молодой Вестлер ходил всю зиму с непокрытой головой, волосы зачесывал на косой пробор. На австрийский манер, по-спортивному, наверно, носил он бриджи, ниспадающие на колени и засунутые в длинные ярко-клетчатые носки, в «штуцы», как такие носки называли в Черновцах. Носил болотного цвета ворсистое пальто, рубаху с твердым воротником, галстук, усики.
До Черновиц я не представлял себе революционера без черной, или пусть уж белой, вышитой косоворотки. После встречи с молодым Вестлером я, помню, подумал, что одно из двух: или этот стройный расфуфыренный парень — что-то не то, или, наверно, не в косоворотке дело. И еще я подумал: а может, ради конспирации, а? Но все равно: не по сердцу пришлись мне ни его вид, ни его манеры, ни слишком высокие, слишком выспренние речи, что он говорил.
Старый Вестлер — это было совсем другое дело. Ты тут же проникался к нему доверием. Сразу. С первого взгляда.
Во-первых: очень простой человек. Как говорится, свой человек. Во-вторых… То-то и оно, что ни во-вторых, ни в-третьих, ни вообще особых крупных достоинств, чтобы выделить их и описать вот так-вот, не видно было в нем. Исхудавшее тело, кожа да кости. Редковатая, заснеженная, коротко обросшая голова. Лицо без бороды, но и не бритое — бело-седая короткая щетина, жесткая и колючая, на обеих впалых щеках, вокруг носа и даже по всей жилистой шее. На пустых местах — морщины и складки, глубокие, как порезы. Глаза воспаленные, как будто они ночи напролет не смыкались, бдили. Выглядит как натруженный жестянщик где-нибудь в местечке, как замученный, запыленный столяр или забеганный мельник с лицом в муке и головой в муке.
Особые достоинства этого старого человека были запрятаны где-то глубоко-глубоко внутри, проявляясь в его на редкость честной жизни, в испытаниях прожитых лет.
Старый человек. Сегодня я, наверно, старше него. Тогда для нас старый Вестлер выглядел совсем старым человеком. Стариком. Среди нас всех самым-самым старшим.
Он всю жизнь больше сидел в тюрьмах, чем был на свободе. У него уже не было ни одного зуба во рту. Ему отбили легкие, испортили зрение. Он не имел ни семьи, ни угла.
Почему целое государство, с сигуранцами, с полками жандармов, с арсеналами, казематами, десятками тысяч преданных чиновников боялось такого тощего человечка, кожа да кости?
Для нас такой вопрос не был вопросом. У нас был на него ясный, сам собой разумеющийся ответ. Наоборот, часто ночью, зажатый людьми на нарах, лежал я с открытыми глазами, смотрел, как свет от обмотанной проволокой лампочки на потолке падает на раскрыто-пустой рот старого Вестлера, на заостренно-задранный подбородок его, на все его истощенно-узкое тело на железной койке и задавал себе вопрос: откуда берется у этого тощего человечка, кожа да кости, такая сила всю жизнь упрямо, без страха, противопоставлять себя целому государству с сигуранцами, с полками жандармов, с арсеналами, казематами, судьями, тюрьмами, да мало ли еще с чем?
Старый Вестлер руководил тюремным комитетом. В тесном квадратном дворике, куда каждый день на час времени выпускали из всех камер политзаключенных на прогулку по кругу построенными по двое, старый Вестлер шагал каждый раз рядом с другим товарищем. Каждого в отдельности любил он порасспрашивать, как живут дома отец и мать; есть ли братья и сестрички; как выглядит село или местечко, откуда приехал; что думает о мире; что читает и где работает; не голодал ли; один или уже есть подруга; как попался; главное, он любил выслушать с глазу на глаз все подробности, все, что произошло, когда тот был в сигуранце. Если случалось иногда, кто-нибудь держался на допросах не слишком стойко, старый Вестлер не так просто, не сразу, переставал называть его товарищем. Наоборот: он держал его в тюремном дворике возле себя, шагал с ним по кругу несколько дней подряд. Он докапывался до самых деликатных причин, чтобы понять и простить. Не рубить сплеча, даже не оттолкнуть, а наоборот — еще больше приблизить, речами своими вылечить, сделать лучше, тверже. Народ, однако, знал, что старому Вестлеру достаточно одного малейшего лживого слова. За одно только лживое слово он уже никого не прощал и никого не оправдывал — пусть даже и держались на допросах стойко.
Одного малейшего лживого слова чьего-нибудь было достаточно, чтобы старый Вестлер перестал называть его товарищем и считать товарищем.
Каждый вечер, перед отбоем, старый Вестлер завел в камере особый час. В этот час каждый должен был работать над собой — месить, лепить, воспитывать свою честность. Честность в широком смысле. Искренность. Товарищество. Чистоту. Выдержанность. Преданность. Даже просто доброту.
Своего рода час вечерней молитвы перед тем, как лечь спать. Или: своеобразная вечерняя гимнастика — гимнастика души. Тогда мы это называли проще, точнее и, наверно, немного суше: час самокритики.