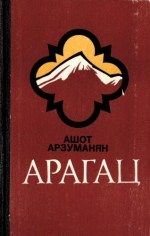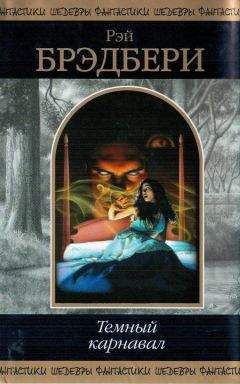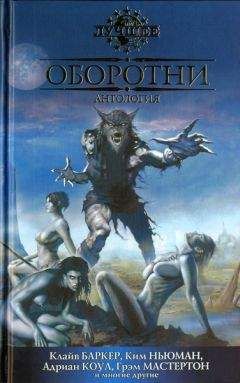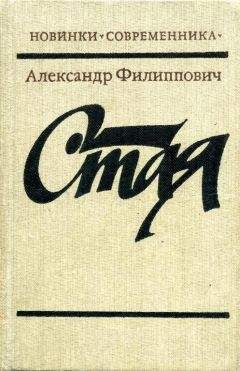Ихил Шрайбман - Далее...
— Слышишь, утром идет повозка на станцию. Мой сосед. Хороший молдаван. Мы уже с ним договорились. Я уже даже и заплатил ему. Я велю тете Зисл, она вскипятит тебе пару яиц, приготовит кусочек брынзы в дорогу. Иди ложись, встать надо будет очень рано. Сосед постучит в окно. Хороший мужик. Иди. Иди.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
В одной из предыдущих глав я сказал, что два дня швуэс в то лето были двумя последними днями моими в Рашкове на долгие, долгие годы, можно даже сказать, навсегда. Это ошибка. Вот лежу я через полтора месяца в густо разросшейся кукурузе на Рашковской горе, на белом свете кончается пятница, я лежу и смотрю в небо, прошу солнце, чтобы оно быстрее закатилось, чтобы стало темно, чтобы я мог уже выйти из этой кукурузной гущи на дорогу, спуститься в темноте в местечко, и никто чтобы меня не видел.
А если хотите, так это и не ошибка. В последующие пару недель, что мне снова суждено было провести в Рашкове, Рашкова я даже и не видел и Рашков не видел меня тоже. На улицу — ни ногой. Рашкову даже казаться не начинало, что я в Рашкове есть. Из своего укрытия в нашем пустом заброшенном доме внизу, возле колодца с «простой» водой, я мог иногда тем не менее откинуть щеколду на ставне и сквозь щелочку смотреть на рашковцев. Они же меня, однако, не видели. Им даже и случайно не приходило в голову, что там, за ставнями, стоит он, тип, который переворачивает миры, которого шеф-де-пост все ищет и ищет, а он стоит и смотрит на них. Он их видит, а они его нет — просто человек-невидимка какой-то.
Я лежал в высокой зеленой кукурузе и ждал, чтобы стемнело. Я не был разбойником с большой дороги и уж, конечно, не был ночной совой и все-таки жаждал ночи, темноты, и меня ничуть не беспокоило, что я лежу, засунут в густую кукурузу, жду с колотящимся сердцем, навострив глаза и уши, чтобы опустилась темнота, как ждет темноты разбойник с большой дороги или хотя бы ночная сова. Наоборот, я чувствовал в этом возвышенность, можно даже сказать, удовольствие. Все скитания мои, всю неприкаянность и обиду, а теперь то, что я лежу здесь на горе, возле дома, и жду темноты, воспринимал я не как наказание, не как кару, а наоборот, как своего рода награду. Не каждого наделила судьба такими возвышенными муками. Лежать и ждать темноты — думал я в тогдашних категориях — как откуп, чтобы вечно было светло. Ждать ночи — откуп, чтобы когда-нибудь был сплошной день.
Солнце стало садиться. Время от времени по дороге проскрипывала крестьянская подвода, запряженная быками. Понемножку начало сереть и стихать. В опустившихся сумерках, в предвечерней тишине, с самого низа, из Рашкова, стали доноситься сюда, на гору, голоса. Разрозненные обрывки далеких детских, а может, женских голосов. Голоса — или отголоски. Но мне казалось, что я узнаю их, родные голоса, узнаю даже, чьи они.
Знаю, что тогда на всем белом свете был вечер пятницы, потому что хорошо помню, как, лежа в кукурузе, вычислял, что вот скоро, когда зажгутся субботние свечи, рашковские улочки опустеют, народ сядет за субботний стол — кто с молитвой, кто без молитвы, кто с бульоном с яичной лапшой, кто с пустым кулешом с жирной костью в честь субботы, — и будет самый удобный момент войти в местечко, чтобы никто меня не встретил и никто чтобы меня не видел.
Я спустился по белому каменистому спуску. В темноте камни белее, освещают путнику дорогу своей белизной. В первых молдавских двориках варят лишь во дворе что-то на ужин. Сухие ветки вспыхивают и потрескивают между двумя кирпичами под казаном. Поят или еще только доят коров. Все затурканы и озабочены — кому до тебя какое дело? В первых еврейских окнах задернуты занавески. По всей длине занавесок разметали свои тени две свечи с вытянутыми дрожащими огоньками. На улице не видно-таки, как я и рассчитывал, ни одной живой души. Портновскую улочку миновал я благополучно. Я шел по темному переулку за базарной улицей, где стоит больше высоких запертых ворот, чем домов. Обогнул старую церковь. Вот уже скоро я буду у переулка, где нужно свернуть к нашему дому, пустому и заброшенному, в котором никто сейчас не живет. Но как раз у этого-то переулка, то есть уже в самом конце, галдели девчонки Шлойме-Арна-сапожника. Недаром, наверно, говорят, что Шлойме-Арн-сапожник со всей своей семьей справляет субботу с одной селедочной головой. Шлойме-Арниха заворачивает голову селедки в бумагу, жарит на раскаленной сковороде, замешивает мамалыгу, и вся компания Шлойме-Арна-сапожника, восемь ртов, не сглазить бы, макает комочки мамалыги в жирный кусок бумаги, и вот это и есть весь Шлойме-Арна-сапожника субботний стол. И таких вот, так справляющих субботу, тоже надо было избегать? Тоже надо было бояться?
Чтобы дети Шлойме-Арна-сапожника меня не узнали, я снял пиджак и накинул его себе на плечи; сделал себе какую-то особую, раскачивающуюся походку, даже прихрамывал чуть-чуть. Но дети Шлойме-Арна-сапожника все равно меня сразу узнали. Одна из девочек Шлойме-Арна тут же побежала к нам домой сообщить новость. Принести хорошую новость — не меньшее благо, чем красиво встретить субботу. Девочка вбежала к нам в дом запыханная и раскрасневшаяся, так быстро она бежала и так сильно она радовалась:
— Рэйзл… Реб Ицик… Ваш старший сын приехал!..
Мама замерла на стуле с куском во рту. Она глянула на отца, как он сразу стал белый как стенка, и вместо «спасибо» заговорила с бедной девочкой, повысив голос:
— Ты что, с ума сошла?.. Кто приехал, что приехал?.. Где же он приехал, ты же видишь, его нет?..
— Приехал, Рэйзл… Чтоб я так жива была. Пришел через переулок. Внизу, в ваш нижний дом…
Мама, хорошо все понимавшая, переглянулась с отцом. Как бы то ни было, мой приезд надо замять. Как же замять, по-хорошему или по-плохому? Она собралась с силами и натянула на лицо тонкую хладнокровную усмешечку:
— Слышишь, девочка, или тебе это приснилось, или у тебя жар… Мы только сегодня получили от него письмо. Как он мог вдруг приехать, когда он так далеко? Тебе показалось. Что-то тебе, тьфу-тьфу-тьфу, померещилось. Ицик, дай девочке попить. Иди, сморкатая, и не говори этого больше. Никто не приехал, и ты никого не видела. Слышишь, что тебе говорят?
Через забор я перепрыгнул во двор нашего заброшенного дома, запутался в бурьяне и крапиве, сидел потом на еле поднятой над землей двери нашего погреба. Двери и окна в доме стояли запертые, заколоченные, сквозь оконные стекла выглядывала изнутри густая черная тьма, такая же густая и черная, как темень на улице. Я сидел на невысокой двери погреба, и надо мной, подрагивая, мерцали на небе миллиарды звезд, как мерцали звезды только в пятницу вечером на рашковском небе. Этот заброшенный дом наш отец много лет назад купил за бесценок у Иойла-длинного. Иойл-длинный «ушел» в Америку. Они с отцом еще мальчишками ходили вместе перебирать табачные листья в деревнях у помещиков, и он всегда считался ближайшим другом отца. Дом свой он перед «уходом» в Америку скорее подарил отцу, чем продал за бесценок. Дом имел большой чердак, две комнатки с кухней, если спуститься на несколько ступенек — башка внизу с маленькими зарешеченными окошками. Для отца этот дом был — просто дворец. Но счастья этот дом-дворец отцу не принес. Скорее наоборот. Мы жили в нем два-три года, не больше. Мама там проболела после родов несколько месяцев подряд, чуть не покинула этот мир. В этом доме умер мой братик — Шэпселе. И мама вбила себе в голову, что она в этом доме жить не может. Говорила только об одном — она здесь жить не может, это проклятый дом! Не помогли ни уговоры, ни объяснения, что это глупости, что она себя уговорила. (Разъяснять что-нибудь отец был специалист — один на свете.) Он даже пытался кричать на нее, кричал, что в нее, спаси господи, вселился злой дух, и тоже не помогло. (Выгнать злого духа, что вселялся иногда в маму, отец никогда в жизни не мог.) Кроме того, мама говорила, что мы оторваны — магазинчик, доход, то есть, наверху, на базарной улице, а проклятый дом где-то в самом низу, возле колодца с простой водой, возле торговки свечами, сразу около бани. Она валится с ног. Она не может разорваться — и здесь, и там. Лавку надо охранять. Надо лежать возле нее, как собака возле конуры. Оставить отца одного — так его десять раз в день обдурят, десять раз в день разнесут в клочья. Короче, не помогли никакие контрдоводы. Отцу, хотел он или не хотел, пришлось закатать рукава, опять наодалживаться по завязку и, воспользовавшись архитектурными советами деда Зусие, самому поставить за лавкой три стенки из старых досок, обить их дранкой, обросать стенки комьями глины, кое-как положить на них потолок, крышу, достать где-то два старых окна, одно больше, другое меньше, и из «дворца» мы в добрый час въехали сюда, в две дыры, которые мама называла «спальни» и про которые сказала, что детям зимой здесь будет тепло, как в ухе. Проклятый дом стал называться заброшенным домом. Там остался стоять старый фамильный шкаф, который уже нельзя было трогать, расшатанный топчанчик, изъеденный молью, паутина в углах, веревочка на окне, на которой когда-то висела занавеска. Продавать дом и некому было, и отцу что-то не очень хотелось — подрастают дети… В подвале отец просеивал в решете свои семечки. В кухоньке он эти семечки жарил на листе у огня печи, грустно подпевал себе под это чудное занятие, всегда тихо вздыхал, что горит он день и ночь на огне и не знает за что. Во двор заброшенного дома спускались иногда поиграться дети. На чердаке младший братишка мой, Бузя, растил пару голубей, вложил в это всю детскую радость свою, а когда он их уже вырастил и «она» сидела уже на яйцах, кошка эту парочку голубей загрызла как-то ночью, так что от них даже перышка не осталось. (Еще одно доказательство мамино, что оно и в самом деле так, как она говорила, — проклятый дом.) А когда у мамы вовсе хорошо было на душе, она еще наверху покатывалась со смеху, показывая на отца: богач в Рашкове, с двумя домами, одним бурчаньем в животе и с двадцатью дырками в штанах…