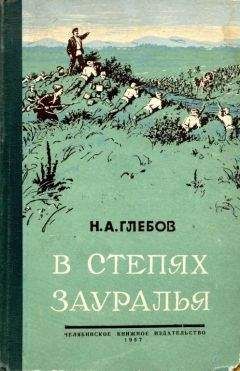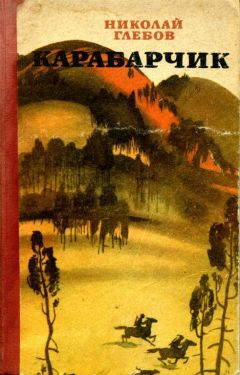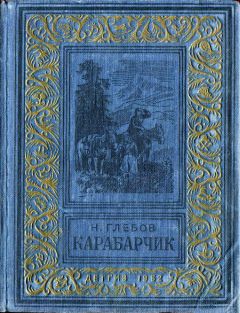Николай Глебов - В степях Зауралья. Трилогия
— Пустите! — отбиваясь, продолжал кричать Василий, скрипя зубами. — Я кровь проливал за отечество, а он, гад, такие слова!
— Уходи по добру! — Евграф сурово посмотрел на Поликарпа, который продолжал куражиться, не выпуская кола из рук.
— Пускай Васька выйдет, я дам на память!
— На память? — разбросав женщин и казаков, висевших на его руках, разъяренный Шемет выскочил из сеней. — Гадюка, привык с бабами воевать! — засучивая рукава, произнес он с угрозой.
От угла истоминского дома отделилась небольшая фигурка кривого мужичонка с самодельной балалайкой в руке. Подкравшись сзади к Поликарпу, Ераска взмахнул своей «усладой». Раздалось короткое «дзинь». Писарь медленно выпустил кол и, ошалело выпучив глаза, посмотрел на нового противника.
— Мое вам почтение, Поликарп Силантьевич, — ухмыльнувшись, Ераска погладил жиденькую бородку: — Коевадни вы сами просили сыграть вам чувствительное, но я, значит, и подобрал мотивчик. Уж не обессудьте на музыке!
Наутро Истомин направился к Василию, который жил на выезде к Тоболу. Шемет поправлял развалившийся заплот, обтесывая колья для изгороди.
— Раненько принялся за работу, — протягивая кисет с табаком, сказал Евграф.
— Не терпится. Тын развалился, крыша на избе осела. Надо новые стропила ставить.
Воткнув топор в толстую жердь, Василий закурил.
— Насчет бревен придется в комитет идти, без бумажки лесник не отпустит, — заметил он.
— Председателя Ведерникова попросишь, — Евграф спрятал кисет и продолжал: — От чего ушли, к тому и пришли: как правили атаманцы, так и сейчас правят.
— Недолго им придется хозяйничать, — заявил твердо Шемет.
— Долго-недолго, а власть опять богатеи взяли. Сил у нас маловато. Может, подойдут казаки с фронта, тогда поговорим с комитетчиками. — Подумав, Истомин добавил: — Надо съездить в Марамыш к Русакову.
— Это к тому, о котором говорила Христина Ростовцева? — спросил Евграф. — Что ж, съездим!
Наложив гостинцев родителям, Устинья проводила мужа до моста и крикнула вслед:
— Узнай, не сулится ли Епиха домой! — понурив голову, повернула обратно.
В доме Истоминых скучно. Устинья работала в огороде, помогая свекру строить парники. Тут же возле нее вертелась девятилетняя падчерица Анютка, разглядывая через разноцветные стеклышки яркое солнце. На заборе, хлопая крыльями, горланил петух. Теплый ветер приносил с собой аромат увядших с осени трав. Перед Устиньей на миг промелькнуло исхудавшее лицо мужа, задорный Оська, и точно из далекого тумана выплыл облик Сергея. Зимними ночами, которым, казалось, не было конца, он неотступно стоял перед ней. Устинья вставала с постели, зажигала лампу и, прислушиваясь к скрипенью сверчка, сидела с прялкой до тех пор, пока не онемеют руки. Она ненавидела Сергея, думала: все пройдет, забудется — и все сильнее рвалась к нему.
Гостя у родителей, она узнала, что Сергей стал часто скандалить — требует от отца раздела. Василиса Терентьевна разъезжает по монастырям. Похудела, часто плачет. Дарья вино начала хлестать: с мужем нелады. Как бы совсем умом не свихнулась.
«Не ходи сорок за двадцать. Когда шла за молодого, что думала?»
В воскресенье Устинья увидела и сама в церкви Дарью Видинееву. Одетая пышно, с накинутой на голову черной косынкой, из-под которой выбивался серебристый локон, жена Сергея тихо молилась, устремив неестественно блестевшие глаза на икону. Когда-то властное, красивое лицо поблекло, вся фигура казалась расслабленной, вялой.
Перед отъездом Устинья, идя на базар, чтобы купить на платье, встретила Сергея.
Молодой Фирсов, играя шелковыми кистями пояса, шагал легко и свободно, небрежно кивая головой на почтительные поклоны знакомых. Его гибкая, стройная фигура, резкие черты лица, мрачные глаза, блестевшие из-под густых черных бровей, говорили о необузданном нраве хозяина.
Устинья, спрятавшись за угол магазина, проводила Сергея взглядом. Тревожное чувство овладело ею, и даже теперь она не могла найти покоя.
Когда на поля легла вечерняя прохлада и Лупан ушел поправлять суслоны, Устинья обратилась к лежавшему недалеко от костра Ераске, который помогал Истоминым убирать хлеб:
— Сыграл бы что-нибудь, Герасим.
— Можно, — охотно отозвался тот и, взяв балалайку, вопросительно уставился на хозяйку: — Что сыграть-то?
— Ту песню, что на прошлой неделе играл, помнишь?
— А, про казачку, сейчас! — Настроив «усладу», Ераска тронул струны.
…Скрылось солнце за горами,
Сидит казачка у окна.
Сидит она с душой унылой,
И слезы льются из очей.
Выдержав паузу, певец продолжал:
…О чем, о чем, казачка, плачешь?
О чем, бедняжечка, грустишь?
Неожиданно для музыканта зазвучал голос Устиньи, полный тоски:
…О, как мне не плакать.
Как слезы не лить?
Печаль меня смущает:
Велят милого забыть…
Не выдержав, Устинья разрыдалась.
Подошел свекор, сердито посмотрел на музыканта:
— Опять расстроил бабу!
Ераска предусмотрительно отполз от сердитого Лупана в сторону и ответил виновато:
— Я только про казачку сыграл.
Старик опустился возле Устиньи и сказал, сдерживая ласку:
— Не реви, может, Евграф скоро придет… А ты не смей больше про это тренькать, — заявил он грозно музыканту. — Еще услышу — балалайку о пенек…
Ераска, подхватив свою «усладу» под мышку, поплелся к шалашу.
Евграф вернулся. А покоя Устинья не нашла. Стараясь отогнать мысли о Сергее, Устинья с силой всадила железные вилы в кучу и подбросила навоз на гряду.
— Не вертись под ногами, а то ушибу нечаянно, — крикнула она падчерице.
ГЛАВА 31
Под вечер к Устинье забежала Анисья Шемет, ойкнув, повалилась на лавку.
— На задней улице у Черноскутовых-то что делается! Ой! Господи! — выкрикнула она и, закрыв ладонью пухлое лицо, закачалась, как маятник.
Устинья отбросила холстинку, через которую процеживала молоко:
— Что случилось?
Рассыпая слова, точно горох, та зачастила:
— Степан с фронта пришел, а Васса, сама знаешь…
Устинья побледнела. Семью Черноскутовых она знала. Степан был взят на фронт прямо с лагерного сбора. За два года о нем ничего не было слышно. Писали станичники, будто он зарублен немцами. Потом про Вассу, жену Степана, пошли нехорошие слухи. Зимой Васса родила. Кто был отец, никто не знал. Молчала об этом упорно и сама Васса, тихая, застенчивая, похожая на девушку казачка. Бережно пеленала сына и, слушая, как он гулькал, была счастлива.
Неожиданно появился в отцовской избе Степан. Увидев зыбку, не снимая вещевого мешка и фуражки, выхватил шашку и перерубил толстый ремень, соединявший зыбку с очепом. Зыбка грохнула на пол, раздался плач ребенка. Яростно крикнув помертвевшей жене: — Сволочь! — Степан выскочил из избы.
Вассу спрятали. Возле избы Черноскутовых стал собираться народ. Заглядывали в окна и, увидев тесно прижавшихся друг к другу стариков, молча качали головой и отходили. Вскоре пьяный Степан, выйдя из-за угла соседней улицы с обнаженной шашкой, подбежал к отцовскому плетню и начал крошить плотно слежавшийся тальник.
Через полчаса вяло опустился на сваленные колья и закрыл лицо руками. В избе было тихо. Любопытные казачки, прячась за изгородью палисадников, не спускали глаз с неподвижно сидевшего Степана. Вот он снова вскочил на ноги, дико оглядел притаившуюся улицу и, точно бешеный, начал рубить подпорки старой амбарушки. Полетели щепки, сверкнула искра: видимо, Степан ударил о толстый кузнечный гвоздь, замшелая крыша сползла набок. Он оторвал доску и начал часто хлестать дверь. Наконец удары посыпались реже, Степан ослабел. В это время, к ужасу казачек, на улице показалась Устинья. Шла не торопясь, не спуская спокойных глаз со Степана, смело подошла к нему и, обхватив с материнской нежностью голову фронтовика, притянула к себе. Степан очнулся.
— Устиньюшка, се-стри-ца! — И надрывный, ноющий звук пронесся по улице: «ы-ы-ы!». За плетнями послышались всхлипывания, показалась на пороге избы сгорбленная горем мать, за ней, сутулясь и часто моргая красными веками, отец. В тяжелый, точно звериный, вой Степана влились плачущие голоса женщин. Кто-то догадался сбегать за Вассой. Прижимая к груди ребенка, с побледневшим лицом, она торопливо бежала по улице, на миг остановилась перед Степаном и произнесла со стоном:
— Прости!
Фронтовик поднялся на ноги и, махнув Вассе рукой, с помощью Устиньи добрался до избы. Уложив пьяного Степана в постель, она ушла домой.
Утром, чуть свет, она снова направилась к Черноскутовым, тихо открыла дверь и, увидев сидевшую у зыбки мать Степана, остановилась у порога. Старуха со счастливой улыбкой помаячила в сторону спящих в обнимку сына со снохой и тихо шепнула: