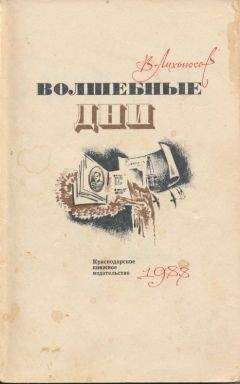Виктор Лихоносов - На долгую память
— Если что, — поспевала Демьяновна, — я корову привяжу и подою.
— Да ладно уж, — довольно отказывалась Физа Антоновна, — Мотя подоит, я на нее оставлю все, тут, если захочешь, распоряжайтесь вместе. У кого когда время будет. Молоко пейте, придет кто купить — налейте, а чо останется — отдавайте этим, что баба у них слепая, у них детей много.
— Не сомневайся. То ты не знаешь меня, — махала Демьяновна. — Я лишнее все пораскидаю. Приедете — одни степы. Дай вам Бог.
— Ой, да хоть бы трава хорошая попалась. Шутка дело — такую даль забираться. Да, не дай Бог, дожди польют.
Они целовались, крестились.
Уезжали с росой, на ранней зорьке. Женя просыпался позже всех: дальняя дорога, которой он радовался с вечера, заспанному была нежеланной. «Вставай, сынок, вставай, — толкала мать, обычно дававшая понежиться, — вставай, там доспишь». Никто потом его так не жалел, и никогда не звучал так ласково голос. Сама она вроде бы и не спала. Удивительно, когда вообще спят русские женщины. Всю юность поражала его женская неутомимость. Куда бы ни поспешил — всюду впереди тебя были женщины.
Еще не доили коров, и солнце еще тонуло где-то в море на востоке. Никита Иванович, тяпнув для бодрости стаканчик, орал: «Ой вы гуси, гуси молоды-ыя-я» — и, посадив мать в кабину, лез в кузов к ребятам. «А веревку ты взял? — спрашивала Физа Антоновна. — Держите бидончик крепче, молоко выльется».
— Ой вы гуси, гуси молодыя!
Вот никогда уже не повторится это, по собраться им вместе не только в такое утро перед покосом, но и вообще в доме. Женя долго видел детскими глазами поэзию там, где взрослые просто жили, старались и торопили дни. О чем он жалел? О своих годах? О возрасте, когда обо всем только догадываешься? О простоте душевной, которую он потерял, или, наконец, о дороге за Криводановкой и трех тополях, одиноких на зеленой равнине, возникавших вдалеке то слева, то справа, манивших к себе, да так и пропавших?
На пути их стояла древняя Колывань. Падали от ее домов луговые тропы к большой реке, зноем дымились леса, конца-краю не было зеленому сибирскому небу. Жизнь обещала заглохнуть за последними рядами деревни, за стадами коров и полянок, но детское воображение ошибалось: под горою, точно прибитая, темнела на голубой воде облинявшая пристань.
— Ну, бабоньки, — говорил Никита Иванович в кузове деревенским пассажирам, — на бензинчик, на бензинчик. Дорого не берем, брали бы больше, да милиция не позволяет. По рубчику с рыла.
Женя и Толик отворачивались, стыдно же было просить за провоз на казенной машине. Отец весело ждал, пока бабки и женщины развязывали платочки с мелочью, и все приговаривал что-то про невесту, которую кто-нибудь подыскал бы ему для ребят.
— На четушку бензинчика уже есть, — усмехался Никита Иванович и давал команду ехать до ближайшей деревни, и часа через два объявлял, прыгая из кузова прямо на крыльцо магазина без окон:
— Остановка «Сельское по»!
— Никита Иванович, здорово! — тыкал его в бок какой-то косой мужик в кожаной фуражке.
— Здорово, как жизнь? — спрашивал с ходу Никита Иванович, словно ненадолго разлучался с мужиком.
— Ничего.
— Ну, «ничего» у нас дома много. Воруем потихоньку? Колхозной курице голову хряп — и в сумку? Десять лет, и порядок! Больше не обманываем Советскую власть. Кто соломку в лапках тащит, кто мешок муки везет. Известно. Старенька, достань там огурчиков, угости, у них в деревне такого нету. Хе-хе. Живем ничего, кто с базара, а мы на базар.
— Никита, ты куда собрался, ты думаешь чо-нибудь или нет? У каждого угла будем…
— Старенька, у тебя там мелочешка не найдется?
— Да откуда я наберусь?
— Пригодится, — моргал он жене по-деловому, но она-то знала, что все впустую. — Я мимо не лью.
— Не льешь. Поворачивай тогда назад.
— Да хватит тебе уже! — брал его за руку Толик. — Мам, не давай ему. Жара, голову печет, поехали.
— А это без сопливых. Я сказал, а ты подумай. Ладом подумай. Когда свои будут, вот и поучишь, а на отца, знаешь…
— Да поедем, Никит, что пустое молоть.
— Дай с человеком поговорить, успеем. Пусть трава подрастет.
Женя толкался возле него и не спешил, хотя до потемок еще было ехать и ехать, провожая глазами мостики и поселения, и босых девчонок, к которым уже странно влекло его. Он как-то побаивался, никогда не приближался к ним и заметил, что деревенские больше насмешницы, шепчутся меж собой и прыскают, обсуждая. Он уже тогда был, как и мать его, против того, чтобы о нем подумали плохо, и уже тогда сказывалось в нем нехраброе отношение к женщине, так мешавшее ему в молодости, когда прекрасные незнакомки неслись и неслись мимо.
Физу Антоновну отвлекли свои мысли. В дальней дороге, на воздухе невольно думается о прожитом. Всходил перед ней образ Паши, Парасковьи Григоровны, как она подписывалась в конце длинных, без запятых, строк, давней ее подружки, оставившей Кривощеково после войны. С нею еще в деревне сошлась Физа Антоновна, в одни месяц, на масленицу, вышли они за братьев Ивана и Василия, в одной комнате жили на заработках в Донбассе, гуляли, крестили детей и не разлучались в Сибири, особенно когда проводили мужей на войну. И сны если виделись, то непременно с участием Паши, и это с ней она якобы ехала в поезде, отстала и кричала потом вслед поезду: «Там чемодан, а в чемодане костюм, такого костюма я вовек не наживу!»
«Помню, на крещенье приезжают меня сватать братья отцовы. На серой лошади. Поставили лошадь к соседу, взяли свою булку хлеба (повязана была белым платком), оба подвыпимши, с палочками, как и положено. Ох, давно как было. Постучались, заходят. «Здравствуйте». Ну здравствуйте. Мама рассердилась, не принимает гостей, то есть сватов, не проводит их в комнату. Потом кой-как пробурчала «проходите». Они положили хлебы на стол и стали объяснять, зачем явились. «У вас, говорят, девушка есть». Мама: «Я, — мол, — не отдам, она у меня молодая, я, — мол, — ей еще и приданое не сготовила». — «Ладно, сами наживут». Мать ни в какую. Когда пришли в третий раз, то мама была уже помягче, запросила с жениха большой калым. У него в дому того не было, просто чтоб отвязаться, может, какими судьбами отстанут. Ушли сватовья, и вздумали мы через неделю уйти убегом.
Зашли к соседу вечером поздно, и оттудова отец твой не пустил меня домой. И мы собрались, соседка нас благословила, мы пошли по огородам, по садам. Пришли к его дому, были сестры, и брат ого лежал на печке. «Вот так бы и давно», — говорит. Три дня не являлись, конечно, я маму крепко обидела своими неприятностями. Потом на четвертый день пошли мириться. Мама сидит у печки, поздоровкались, я разделась и заплакала. Мама и говорит: «Рано плачешь. Это только цвет, а ягод еще нет. Раз посамоволиничала, так не плачь». Иван уговаривает, называет мамой, «давайте помиримся, простите нас». Он был боевой, смелой. Мама встала, пошла в другую комнату, пододелась и вышла опять на кухню, мы сразу попросили у нее прощения и поклонились в ноги, поцеловали ее».
В покойном окружении вечного неба, прижавшись спиной к борту, Физа Антоновна мысленно обращалась к Паше с письмом, отвечала на ее последнее, майское, в котором она помнила каждую строчку. В уме письмо легко складывалось, не надо было царапать пером по бумаге и в безмолвной речи с ее несколько жалобным женским тоном и желанием оказать побольше начистоту она делилась такими общими для обеих историями и переживаниями, что, казалось, видела и слышала в этот момент Пашу возле себя и знала, чем бы Паша ответила, потому что не одну зиму просидела с ней вечерами у растопленной печки.
Пока она так мысленно писала, сникшее лицо ее с напухшей у брови бородавкой грустнело, губы шептали, глаза видели что-то далекое, ей одной ведомое, и, разбуженная вдруг чем-то внешним, она не сразу привыкала к обычному состоянию. Не так уж часто выпадали в ее житье-бытье минуты, чтобы ненадолго всколыхнуть забытую пору и удивиться, будто не с нею это и было. Думают в разные часы друг о друге люди, и если бы те, о ком думают, знали об этом сейчас же! А может, и знают, чувствуют иногда, ведь не случайно бытуют в народе поверья, что в несчастных или в каких-то памятных случаях отдается в организме некое волнение и явно проступает то в снах, то в мыслях. Может, и Паша ее сидела где-нибудь сейчас и вспоминала, или, болела, или нервничала от чужой обиды. Самое главное — иметь рядом человека, которому всегда охота пожаловаться в печали. Без такого человека трудно, она убедилась. Перехватить денег, попросить накваски под варенец, перетаскать сено, покараулить дом пли посмеяться в хорошем настроении — кого-нибудь сыщешь. Но для доли душевной — очень редко. И Паши вот не было уже сколько лет. Время пролетело как в песне, которую они, бывало, тянули вдвоем в застолье, и все надежды перенесли они теперь на своих деток. Дети росли, чего по видели в них посторонние? уже от матери не скрывалось. Физа Антоновна где-то отчетливо сознавала, как не просто будет ее сыну на своем веку. Вот сидит он сбоку, вместе с Толиком, неродным, а привычным, сидит еще ребенок, счастливый восьмиклассник, все с книжкой, и худо ли, бедно, сидит возле матери: она и поругает, и погладит. А вырастет, попадет к чужим людям, да, не приведи господи, в далекую сторону, — кто последит за ним, кто посторожится, кто вовремя пожалеет? И она только и будет гадать: где он? что с ним? обедал ли? Небо кололо звездами, и непонятно было, когда доедут до места.