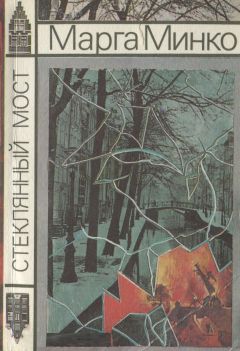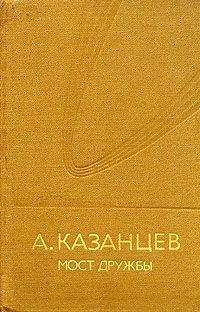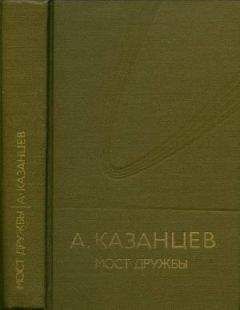Влас Иванов-Паймен - Мост
— Нет, Василь Карпыч, отрезанный ломоть к буханке не прирастет! Тебе же Илюша сказывал: не ходи в бедняцкий курмыш. Ищи себе ровню, — ответила Оля и вскочила на ноги.
Парень загородил ей дорогу.
— Ах, ты так, шлюха! — переменил он обращение. — К ней добром, а она хвостом! Ты, сучка, шлялась по всем ночам с чувашленком, опозорила все село. Смотри, как бы тебе дегтем ворота не вымазали!
Оля вплотную подступила к своему бывшему кавалеру, внезапно и крепко схватила за ворот.
— Ты, подлый человек, — гневно зашептала она, — так и знай: если подойдешь к моему дому, Илюша свернет тебе шею. А то и сама тебя придушу. Вот пока — на, получи задаток! — и Оля ударила его по щеке.
Васька, наглый, но трусливый, решил, что Оля может и теперь позвать Илюшу на помощь.
— Я ж пошутил, Олька! Я ж с добром к тебе пришел, а ты… — И не договорив, отскочил от девушки, злобно выкрикивая уже издали: — Ну и черт с тобой! Кто возьмет тебя такую… Сама прибегешь ко мне. Попомни мои слова, шлюха!
Началась уборка хлеба, прекратились игрища молодежи. Оля не могла выбраться к реке: приходилось ночевать прямо в поле. Сначала она была спокойная, работала за двоих, других увлекала за собой. А потом… Потом все стало валиться из рук. Неужели прав Васька? Неужели забыл свою Ульгу Румаш?! Второй месяц не было от него весточки.
После молотьбы опять вечерами улица оживала, звенела веселыми девичьими голосами. Только Оля всех сторонилась, снова вечерами ходила к реке по проторенной ею дорожке. И там все выглядело по-иному. Камыш сухо шуршал, навевал тоску. Печально шелестел лес за Ольховкой. Пожелтевшие листья перелетали реку и, кружась, падали к ногам девушки. Дегтярный перелесок одаривал ее теперь не цветами, а сухими листьями. Веселая Ольховка загрустила и сморщилась.
…Оля, печально глядя на реку, тихонько запела:
Глаза вы карме, большие,
Зачем я полюбила вас!
А вы — изменчивые, злые…
Зачем страдаю я по вас!
Опять, как тогда, ранним летом, кто-то подкрался сзади. Оля вздрогнула: «Неужель опять Васька!»
— Шел бы ты, Илюша, на село, — устало проговорила Оля, узнав брата. — А я только тоску нагоню…
— Обожди, дурочка! — грубовато пожалел ее Илюша. — Напрасно ты изводишься. Не мог тебя Рома забыть. Тут что-то не так. Не хотел сказывать тебе… Один наш из села ездил в Базарную Ивановку. Знает он купца Блинова и лавку его знает. Да закрыта она, лавка-то, заколочена. Вот тут какая петрушка! Может, уехал Рома куда-нибудь?
Встрепенулась было Оля, но тут же снова поникла головой:
— Уехал? Ну, уехал. А письмо-то мог написать? А што и тебе не пишет, это же понятно. Зачем писать, ежели он всех забыл?!
— Знаешь, Оля, есть хорошая весточка от дяди Коли, — решил парень отвлечь девушку от невеселых дум. — Поди, скоро приедет насовсем.
В другое время обрадовалась бы Оля, запрыгала, затормошила бы Илюшку. Ведь дядя Коля им обоим — родной дядя, любимый дядя.
— Ты говорил, что дядя Коля большевик, — отвлеклась от грустных мыслей девушка. — Румаш тоже называл своего дядю Авандеева большевиком. Разыскать его мечтал, чтоб и самому стать таким. Верю Румашу, что это хорошо… А может статься, что теперь он писать но может… Он ведь не всем сказал о своей мечте — только тебе да мне, да, может, еще Тражуку. — Это имя Оля назвала, не подумав. Но тотчас же вскочила. — Вот дура-дуреха! О Тражуке не вспомнила. Да и ты хорош, тоже забыл. Пойдем к нему, пойдем сейчас же. Тут близко, вброд! Тражуку-то он, наверно, пишет…
— Не забыл я про Трошу, — отмахнулся Илья. — Да сейчас нет его в селе. Он — в Камышле. Обожди денек. Я тут удумал одно… Хочу проверить. Не надо тебе пока в Чулзирму!..
— Это уж мое дело, — рассердилась было Оля, но вдруг улыбнулась и попросила ласково: — Обожди, Илюшенька. Я побываю у матери Тражука, и если ничего не узнаю, делай тогда что хочешь!
18
Приумолкли гумна. Отмолотились люди и в Чулзирме и в Сухоречке. Лишь на одном гумне в Чулзирме слышится бодрый перестук цепов: так-так-так… ток, так-так-так… ток… Дубовые молотила ведут лихой перепляс под веселую музыку.
Мужчина и три женщины стояли парами вполуоборот друг против друга. Мужчина — в первой, с внешней стороны настила снопов. Пары переступали в такт своей музыке — то вперед, то назад, медленно передвигаясь вдоль настила. Первая пара пятилась назад, вторая наступала. Можно подумать, что исполняется какой-то танец. Мужчина, взмахнув цепом выше всех, разбивал сноп, другим ударом подправлял отбившиеся пучки. Женщины с веселым задором ударяли по колосьям, будто похваляясь друг перед другом своей лихой жестокостью. Женщины — молодые, мужчина стар и быстро устает.
— Заездили вы меня, анальи. — Он тяжело опускается га копну ржаной соломы. Женщины продолжают молотьбу уже втроем. Теперь слышится перестук в три такта, будто чувашская плясовая сменилась вальсом.
Дед Ермишкэ оставил было на зиму две скирды ржи. По соблазнила погода, теплое ясное бабье лето. Да мешала спокойно жить мысль: «Вернутся сыновья с войны, не хватит до весны обмолоченного хлеба».
Кидери не впервой работала с невестками Элим-Челима. Праски хотя на три года старше Кидери, но лицом, нравом и озорными выходками скорее походила на девушку, чем на замужнюю. Старик потакал ей, опасаясь, что бездетная сноха вернется к родителям в Самлей. А самлейские — они такие, без стыда и совести.
Старшая иногда остановит Праски:
— Не дури! Веди себя степенней. Что скажут люди!
Праски только хохочет, а потом, притихнув, говорит:
— Ах, милая невестушка! Ты хоть с мужем пожила, двоих детей родила. А нам ведь пожить не дали. Хочу ребеночка, и все!
Хвеклэ грозит пальцем.
— Тише, дуреха. Как бы Мирской Тимук не услыхал. Говорят, он помогает бездетным бабам…
— Это ты брось! — сердится Праски, но веселый характер берет верх: — Если уж так, найду себе и помоложе, и попригожей!
…После завтрака обычно работать продолжали сразу. Но дед Ермишкэ заснул с недокуренной трубкой, привалясь к скирде.
— Поспи и ты немножко, ингэ, — предложила Праски. — А мы с Кидери наберем ежевики.
Кидери отстала от подруги: она вглядывалась в тучку пыли, которая летела к селу по камышлинской дороге. Признав в седоке Тимука, девушка нагнала Праски. А та, и не оборачиваясь, все замечает.
— Это не он, Кидери. Это — Мирской Тимук, он девушек не любит. Милует только вдовушек и солдаток.
— А ты почем знаешь? — вскипела Кидери. — Тоже миловалась с ним?
— Не серчай, Кидери. Я ведь давно догадываюсь. Сохнешь ты, девка. Знаю, кого ты надеялась увидеть… Тимук все время один ездит в село, Тражука не берет… Ну не горюй, это не с войны ждать. Ты-то дождешься своего милого…
— Не мой он, не мой, Праскиакка, ничего-то ты не понимаешь!
— Я думала, тебя он любит, — растерянно сказала Праски.
— Он любит желтые башмаки, — отрезала Кидери, скрываясь в зарослях ежевики.
…Симун — гость, солдат… «В общем, большой бездельник», — усмехается он про себя. И пора бы уж браться за работу. Острого недуга нет, тот, что есть, — так с ним и останется до конца жизни. Сидит Симун у раскрытого окна, мечтает о несбыточном. Никто ему не мешает. Дядя уехал в город, Симуна злая тетка не жалует. Уксинэ бегает с подругами в лес по грибы. Плаги и Кулинэ на гумне. Сынишка еще не привык к нему, мать сторожит его, чтоб не беспокоил больного отца. «Бедная Плаги, — думает Симун о жене, — терпеливо несешь ты свой крест, но ведь и я свой несу. Не виноваты мы с тобой, что нас без любви сосватали, свели на всю жизнь. Но кто же виноват?»
Плаги спокойна. На ее румяном по-детски округлом лице нельзя заметить ни тени печали, затаенной грусти. Она не умеет сердиться, голос ее всегда тих и ровен, речь замедленна. В глазах никогда не гаснет хотя и неяркий, но теплый свет.
Симун жалеет ее, но забыть не может: там недалеко, в Сухоречке, живет его любимая. Когда Симун уходил в солдаты, Шора примчалась в Кузьминовку проводить его, плакала, голосила на его груди, как жена…
«Может, теперь уж и замужем. Разузнать бы, но как? Не спрашивать же дядю! Хоть бы кто из Сухоречки заехал. Да откуда! Русские не бывают здесь ни по делу, ни без дела».
Четыре года тому назад встретил он Нюру в лесу, в такую же пору бабьего лета. Девушка пошла по грибы, но отбилась от подруг, заплуталась. Перед ней как из-под земли вырос сказочный спаситель. Девушка заплакала, засмеялась, подала голос. Заворковали тут голубь и голубка, не думали, что они птицы разных пород, с разных берегов Ольховки, и не только река разделяет их.
Реку, как и Румаш, переходил он вброд, первым нарушив запрет ходить затемно через Чук-кукри. Нюра дожидалась его на том же самом месте, куда позже стала приходить другая девушка из Сухоречки встречать другого из Чулзирмы парня. Через реку нашел брод Симун, а нарушить обычаи, волю дяди не посмел.