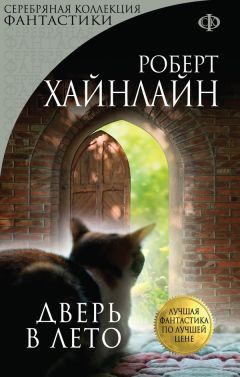Юрий Либединский - Зарево
Саше очень хотелось спросить о тех двух веселореченцах, которых он отвозил до Баку, — они наверняка после восстания бежали в Тифлис. Может, сам Константин побывал в это время в Веселоречье? Но он не решался спросить.
Константин помолчал, думая о чем-то своем. Потом вдруг прямо и смело взглянул Саше в глаза.
— Знал бы я, Саша, что именно вы поедете в Баку, дал бы я вам несколько поручений!
— А вы знаете, что я был в Баку? — удивленно спросил Саша.
— Как-нибудь мы еще поговорим об этой поездке и о Баку.
Константин протер покрасневшие глаза и сказал:
— Тут стоит воедино собрать все подобные факты. Так, например, в тысяча девятьсот девятом году закончился судебный процесс, длившийся с тысяча восемьсот шестьдесят второго года, то есть около пятидесяти лет. Вели дело рабочие строгановских заводов против владельцев этих заводов, одновременно являвшихся крупнейшими помещиками, как это водится на Урале, где заводчикам принадлежат сотни тысяч десятин земли. Рабочие заводов, в огромном большинстве крепостные, потребовали выполнения закона тысяча восемьсот шестьдесят второго года о наделении крестьян землей. Даже закон, царский, несправедливый и грабительский закон, был на их стороне, и в тысяча девятьсот девятом году сенат предписал пермскому губернскому присутствию наделить крестьян землей, применив закон тысяча восемьсот шестьдесят второго года. Что же произошло? А то же самое, что так ярко описано в брошюре Цулукидзе, отрывок из которой вы мне перевели. Помещики стали плакаться и стенать, и родная душа тут же откликнулась, министр Столыпин дал пермскому губернатору телеграмму: приостановить исполнение указа. А ведь по закону-то, Саша, по царскому же закону, — сенат выше министра. Губернатор приостановил. Новая переписка, новая волокита, снова обращались к министрам. Дело дальше не двигается. Произвол и беззаконие? Верно?
Он помолчал.
— Этот факт приведен в последнем дошедшем до нас номере «Правды». Статья подписана одной буквой «И». Если бы она и совсем не была подписана, все равно по слогу, по орлиному полету мысли можно узнать Ленина. И вот что сказал Ленин по поводу этого судебного дела пятидесятилетней давности: «Смешно говорить о «праве», когда помещики и издают законы и применяют или отменяют их на практике». И это происходит везде — и на уральских заводах, и на полях Украины, и в Грузии, и на пастбищах Северного Кавказа. Вот вы спрашивали меня о Веселоречье. А там как раз и произошло то же самое: жульнически был отменен царский рескрипт, и народ поднялся. «Своих законов не исполняют», — как говорил один симпатичный, но весьма наивный веселореченский деятель.
Константин вдруг замолчал и повернул голову, словно его позвали. Где-то в доме играли на рояле «Песню без слов» Чайковского, как будто, вспомнив о Талибе, этом самом «веселореченском деятеле», он одной силой воспоминания вызвал мотив, звучащий в его душе тогда, когда, стоя с Людмилой на балконе, говорил о Талибе, о том, что веселореченцев обманывают, пользуются их наивностью, доверчивостью.
Музыка смолкла.
— Как это неожиданно! — тихо сказал Константин.
— Что неожиданно? — спросил Саша.
— Неожиданно этот мотив… Это ваша сестра играет? Немного не так, но все равно. Этот мотив — это желание счастья, вера в возможность его. Но когда? И где? «Там за далью непогоды есть блаженная страна…» — тихо пропел он. Потом вскинул голову и добавил по-другому, громко и весело: — «Но туда выносят волны только смелого душой».
Он сунул руку в карман, достал свернутый вдвое листок и прочел:
— «Настало время борьбы! Весь бакинский пролетариат проснулся, все рабочие рвутся в бой с капиталом. Снова возгорелась заря нашего рабочего движения!» Хорошо сказано?
— Можно прочесть всю целиком? — попросил Саша.
— Я вам оставлю эту прокламацию. Но с одним условием…
Константин помолчал, сел на кровать и крепкой своей рукой усадил Александра рядом с собой.
— Да, не был я с вами знаком, когда вы отправлялись в Баку, а то с какими чудесными людьми вы познакомились бы там! — проговорил он, и взгляд его, добрый и какой-то ощутимо-весомый, снова задержался на лице Саши. — Эту прокламацию получили мы из Баку, — сказал Константин.
— Перевести ее на грузинский, да? — с волнением спросил Александр. — Право, я сумею.
— Нет, не просто перевести… А представьте, что вы должны рассказать вашим соотечественникам грузинам о начавшейся в Баку забастовке. Но так рассказать, чтобы все грузинское крестьянство поняло, что в борьбе с «таткаридзевыми» — так, кажется, называют у вас помещиков — есть у крестьян могучий союзник — бакинский пролетариат. И что если борьба с капиталистами в городе дополнится борьбой против помещиков в деревне, тогда это будет означать всенародное восстание, вторую и уже непобедимую русскую революцию! Сумеете так написать?
— Попробую! — ответил Александр.
— Ну и прекрасно! — Константин встал и взял в руки фуражку. — Когда мне зайти к вам узнать относительно комнаты? — спросил он.
— Вам никуда сейчас уходить не нужно. Мама послала уже Кето с запиской к дяде, через час будет все известно.
— О, это превосходно! — Он подумал и сказал: — Тогда, если разрешите, я напишу здесь, за вашим столом, кое-какие письма.
— Пожалуйста, прошу вас, — ответил Саша и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь.
Солнце садилось, подул ветер, принес облака, и белье, развешанное на плоской кровле, расположенное на одном уровне со стеклянной галереей, где находился Саша, раскачивалось, меняя цвета: ярко-красное становилось сумрачно-багровым, синее — голубым, фиолетовое — черным. Там, на крыше, утром играли дети, в вечерний час появлялись женщины и ложились спать. Порою там происходили какие-то торжества, звучала чонгури, шли танцы. Саша часто засматривался на эту открытую перед ним жизнь. Вот и сейчас: веревка, на которой висело белье, вдруг оборвалась, выбежали две девушки и мальчик и с хохотом стали поднимать белье с земли и укреплять веревку. Галерея, примыкавшая к дому Елиадзе, была сильно затенена вьющимся виноградом, и Саша даже никак не мог сообразить, где именно находится эта кровля, с какой улицы на нее можно попасть. Это вызывало у него грусть, неудовлетворенность и ожидание счастья в будущем — поэтически волнующее чувство.
Он ходил по галерее, следил за веселой возней с бельем и думал о том самом важном, что сегодня с ним произошло. Он понимал, что поручение Константина было первым поручением партийной организации, а это означало, что к его намерению вступить в партию отнеслись серьезно.
Словно бы дверь в мир борьбы и подвигов, в широкий мир нужды, гонений, страданий, многовековой несправедливости открылась перед ним, и Александр был уверен, что в этом мире ему будет неизмеримо шире и просторнее жить, чем в ограниченном несколькими улицами семейном мирке.
Вдруг на галерее показался Давид.
На нем была его лучшая черная пара, которую Саша видел всего раза два, и, чего уж Саша никогда не видел, под белым мягким воротничком продет был галстук и так туго затянут, что все жилы надулись на тонкой и сухой шее Давида. Обычно, когда Давид входил, Александр сразу чувствовал на себе его уважительный, взволнованный взгляд. Сейчас он, даже не поздоровавшись, спросил по-грузински:
— Константин у вас в доме?
— Говори по-русски… — сказал Саша.
— Э-э… — досадливо закряхтел Давид, но повторил вопрос по-русски.
— Идем, я тебя провожу, — ответил Саша. — Ты сегодня приоделся. Уж не на свадьбу ли?
Но Давид пропустил эту шутку мимо ушей и, войдя в комнату Саши, сразу бросился к Константину.
— Новости, амханаго Котэ, хорошие новости, помещение нашли.
Он взглянул на Александра, потом обернулся к Константину.
— Может, мне уйти? — самолюбиво спросил Саша.
Константин взглянул на него просто, спокойно.
— Очевидно, так лучше будет.
Александр круто повернулся и ушел.
Константин, взглянув ему вслед, покачал головой.
— Обиделся. Ну, это ничего. Парень он очень подходящий. И, помолчав, добавил: — Даже стоящий. Значит, поймет. Ну, так что у вас, Давид? Да вы садитесь и не изображайте собой фигуры вестника в греческих трагедиях.
— Зачем садиться? Идти надо, смотреть. Нашли помещение. И если не снять его, другим сдадут. Там фруктовый склад был.
— А ну, идем скорее.
Они ушли.
* * *После того как Константин ушел, Саша обнаружил у себя на столе письмо и открытку, Марки были наклеены, адреса написаны. Оставалось только бросить их в почтовый ящик, но Константин, отвлеченный разговором с Давидом, очевидно забыл их здесь. Наверно, так не следовало поступать, но ведь в открытках никаких тайн не пишут, и Саша сам не заметил, как слово за словом прочел ее.