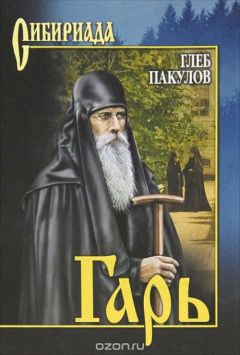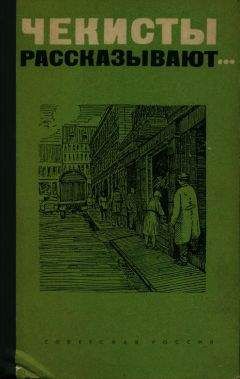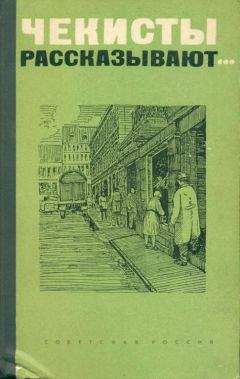Глеб Пакулов - Глубинка
За трехкилограммовый кулек фабричной дроби и пачку дымного пороха деревенский родственник насыпал Котьке ведерко муки. Перед этим он долго вертел в исполосованных дратвой руках скользкую, опарафиненную пачку с нарисованным на ней синим токующим глухарем, сам прищелкивал языком, как глухарь. Котька боялся, что он откажется от пороха, возьмет только дробь и тогда выручка от обмена будет маленькой. Боялся и мял на коленях льняной выстиранный мешок, вроде показывая, что ничего другого в мешке нет, в то же время как бы поторапливая хозяина. Жена родственника молчала у печки, ждала, чем закончится обмен, шикала на галдящих детишек, плотно обсевших скобленый стол. Ребятишки вертели ложками, выхватывали друг у друга ту, что поухватистее, и казалось, совсем не замечали Котьку. Он краем глаза поглядывал на них, совестился, что угадал не ко времени, ужинать помешал. Знал бы такое дело — потоптался б на улице, переждал, пока отсумерничают.
От русской печи волнами наплывала теплынь, в чугуне булькала картошка. Выплески скатывались по задымленным бокам, шариками метались по раскаленной плите, шипели. В избе было парно и душно, окна потели и слезились. Лица ребятишек-погодков разглядеть было трудно: керосиновая лампа, подвешенная к потолку, высвечивала лишь белокурые макушки и влажные от жары лбы.
Хозяин вышел в сенцы, вернулся с брезентовым ведром, полным сероватой муки. Котька торопливо распялил мешок, от печи подошла хозяйка, заботливо придержала край. Когда облачко мучной пыльцы осело в мешок, он бережно встряхнул его, завязал, подергал лямки — надежно ли. Уходить не спешил: уж очень скупо отоварил его хозяин. Порох да дробь стали редким товаром, тут как ни крути, а одного ведерка мало. Ребятишки за столом требовательно забрякали пустыми мисками. Хозяйка метнулась к ним, треснула одного, другого скользом по макушке, повернулась к мужу.
— Ну дак чо? — Она сложила на обвисшем животе длинные, трудом оттянутые руки, ждала, не прибавит ли сам еще, самую малость. Ей было неловко: паренек отмахал столько верст, надеялся на большее и еще ждет, мнется, не уходит.
Котька понимал, о чем она думает, да прямо не говорит, мужа побаивается, пригорюнился, начал просовывать руки в лямки.
— Порох, паря, это подошло, а дробь по зимней поре куда? — помогая ему устроить мешок, виновато оправдывался хозяин. — Батька-то почо картечи не прислал? Козульки по увалам попадаются, а чем их добудешь? Картечью! Не в сезон, выходит, дробь-то, вот какая штука.
— Господи Исусе Христе! — сокрушенно вздохнула хозяйка, поправила на Котькиной шее шарф, обдернула полы телогрейки. — На ночь-то глядя вытуриваем, это чо такоечо. Вскружит — и попрет скрозь границу, как Иваничкин мальчонка. Ночуй без греха.
Котька отказался, заявил, что дома беспокоиться будут, лучше уж побежит. На лыжах быстро доедет.
— Оно и верно, потеряют. — Хозяин снова вышел в холодные сенцы, пошебаршил там и вернулся с куском желтого сала.
— На-ка, мать порадуешь, оладьи будет на чем печь. Это прошлогоднее. Свинью нынче не резал, живьем в фонд поставок сдал. — Хозяин поднял ситцевую занавеску, клюнул носом в стеклину. — Нонче месячно, не вскружит.
Котька упрятывал сало за пазуху торопливо, будто боялся, что хозяева передумают и отберут. Крупные кристаллы соли защелкали по полу, он ичигом подмел их к порогу, надел шапку, кивнул на прощанье и вышел в приотворенную родственником дверь.
— Поклон от нас всем, как водится, — выпроваживая его за калитку, наказал хозяин.
На улице Котька оглянулся на окна дома, представил, как ребятишки выуживают из чугуна парную картошку, хватают с тарелки ломти подмороженного сала, рвут острыми зубами. «Ла-адно, — усмехнулся он. — И у нас теперь сальцо есть. Вот оно, холодит брюхо, а картошка небось найдется».
Лыж своих он не нашел. В сугробе, куда воткнул их и присыпал снегом, остался только отпечаток. Не иначе сперли хозяйские ребятишки. Недаром плющили носы в окошках, пока он стучался у ворот, а старшенький, хитрован, выбегал потом на улицу. Вернулся, воровато прошмыгнул мимо Котьки, на ходу застегивая ширинку, дескать, приспичило, по нужде бегал.
— У-у, паразит! — ругнулся Котька, но возвращаться было неловко. Как докажешь, что тот вор? Никак, за руку не держал. Еще и не поверят, что из-за лыж вернулся, подумают — на ужин ихний навяливается.
Что не пригласили поужинать, на это Котька почти не обижался: время такое, лишним куском не разбросишься, да и нет его, лишнего. Просто позавидовал — люди едят, а ему к своему столу ой-ей-ей сколько еще топать. Подумал, и в животе засосало, кто-то там тоненько заскулил, ворохнулся, аж подтошнило. Он сглотнул слюну, подумал: «Откушу от сала и буду сосать потихоньку всю дорогу». Но тут же прогнал эту задумку: дома ждут, тоже голодные, а он… И живо потрусил по своей лыжне, словно боялся, что соблазн нагонит его и не устоять будет.
Снег только кое-где по ложбинкам был рыхлым. Постоянные ветры намели белые барханы, намертво прикатали их. Бежалось легко, как по доброй дороге: ни сучка под ноги, ни колдобинки. Низкая пойма от самой деревни до протоки была голой, лишь кое-где шелестели сухими бубенчиками рыжие островки вейника. Из одного такого свечой рванул вверх краснобровый фазан, напугал неожиданным взлетом. Котька растерянно проводил шилохвостого шумаря. Знал бы о фазаньей лунке-ночлежке — упал грудью, сцапал — и ка-а-кой подарок приволок бы домой.
…Незаметно поземка поднялась до колен, потом до пояса. Разыгрывалась метель, но поселковые огоньки были пока видны, а над самим поселком висел месяц, большой, яркий, притушив сиянием звезды. Казалось, такой остроизогнутый, он обязательно перережет что-то, на чем подвешен, и упадет, звонко расколется о протоку. И станет светло как днем от ясных осколков, отступит страх. Котька шел, натыкаясь на торосы, и очень хотел, чтоб такое случилось скорее, сейчас.
— Сынка-а! — расслышал он совсем рядом и поддал на голос. Мело вовсю. Даже крутой берег — яр — теперь не проглядывался. Ногами узнал — стоит на взвозе, и тут из круговерти надвинулась фигура отца. Отец поставил в снег никчемный в пургу фонарь «летучая мышь», быстро ощупал Котьку.
— Сыно-ок! Снегом-то как забило. Да чо молчишь, сынка?
— М-м, — промычал Котька сведенными на ветру губами.
— Дай котомку сниму! — кричал отец, тормоша Котьку. — Дурень я старый, послал парня, а знал — будет пурга. Вон как поясницу ломило, а из головы вон. Совсем из ума выжил, чуть не угробил мальчонку!
Котька лизнул языком по стылым губам, раздельно произнес:
— При-шел, глав-ное.
— Пришел — главное! — обрадованно подхватил отец. — А я с работы — прямо сюда. Петляю по угору, реву тебя, а ты вот он, молодчина!
Когда поднялись по взвозу, отец спросил:
— А лыжи, сынка, переломал?
— В деревне стащили.
— От сукины сыны! — заругался отец, но как-то беззлобно, рад был, что Котька вот он, живой, здоровый.
Едва, переступив порог дома, отец весело оповестил:
— Встречай, мать! Снабженец наш вернулся.
Всегда сдержанная на ласку, мать и теперь не выдала радости. Только наладилась было и тут же пропала неумелая улыбка. Одни глаза на парализованном, малоподвижном лице потеплели, стали бархатистыми. После пережитой в тридцать третьем году тяжелой голодухи Ульяна Григорьевна из неуемной певуньи-плясуньи превратилась в хмурую, замкнутую. И если позже, после крутых лет, и перепадала радость, она, как и теперь, едва налаживала улыбку, но сразу гасила, будто своей веселостью боялась навлечь еще большую беду и на сейчас, и на потом.
Отец стащил с Котьки телогрейку, усадил за стол поближе к печи, потом разделся сам. Мать поставила на столешницу миску овсяной болтушки, рядом на дощечку положила кусок хлеба. Тяжелого, отсвечивающего по ножевому срезу металлическим, совсем без ноздринок.
— Горячая, смотри. — Подала ложку и отошла к отцу посмотреть, что в мешке. Котька принялся за болтушку, съел ее, согрелся. Останней корочкой от хлеба прошелся по миске, собрал клейкую жижицу, сунул корку за щеку. Знал, если сразу не проглотить, а сосать, как леденец, можно долго удержать во рту вкус хлеба.
Отец с матерью сидели на лавке, у ног их лежал мешок с мукой и сверху желтый кусок сала. Дым от отцовской самокрутки слоился по кухне, лип к окну, подернутому морозным узором, сквозь который сквозили налепленные крест-накрест синие бумажные полоски. Закрестить окна полосками заставили еще летом на случай военных действий с Японией. Считалось, стекла от взрывов хоть и полопаются, но не вылетят.
Отец курил, отмахивал дым широкой, в трещинах, ладонью. Работал он плотником. На морозе без рукавиц тесать бревна несладко, а в них неудобно: топорище юлит, обтес идет неровный, а Осип Иванович по плотницкому делу был строг. Ни себе ни другим халтуры не спускал. Поэтому работал без рукавиц на самой лютой стуже. Задубели руки, их раскололо трещинами, смотреть — всяких чувств лишены, а проведет ладонью по поделке, любую выбоинку, шероховатинку отметит. С гордостью говаривал: «Деды наши одним топорушком Русь обстраивали, артисты в деле своем были. Топор, он такой инструмент, хоть на что гож. И ворота отвадить, и хоромы ладить». Ложки своим легким, звонким вырезывал — глянуть любо-дорого.