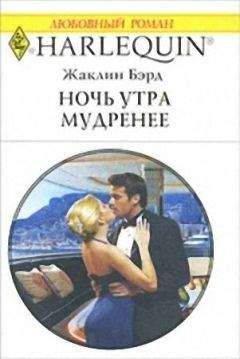Глеб Алёхин - Тайна дразнит разум
— Упрек верный, друг мой, но я не откажу человеку, который тянется к диалектике. К тому же близость с нами помогла мне быстрее раскусить его. — Историк взял со стола свою философскую тетрадь. — Он трижды просил меня дать почитать. Я не доверил.
— Спрячь подальше! Монах на все способен…
Вмешался телефонный звонок. Иван схватил трубку.
Он в ожидании двух вестей: от жены и сотрудника-велосипедиста.
— Сбежал, — прохрипел он, не выпуская трубки из рук. Красные пятна расплылись на щеке чекиста. — Сбежал…
— Это Пискун предупредил.
— Не надо было допрашивать Шельму о сионе!
— Наоборот, голубчик, именно теперь мы обнаружили связку Сильвестра, Машутки и Пискуна. Не так ли?
— Так-то оно так, да Алхимик на свободе. — Иван вернул трубку на телефонную рогульку. — Что я отвечу начальству?
— Пусть Смыслов ни шагу от Пискуна. Тот продаст Сильвестра.
И, словно одобряя слова хозяина, на веранде в два голоса зашлись в свисте канарейки. А в саду безмолвно оседали сумерки…
БРАТЬЯ ПО КЕЛЬЕНочь была темная, как монашеская ряса. Ильменский косохлест сбивал последние листья с монастырских яблонь. В каменной ограде, что тянулась вдоль Волхова, дубовая дверца скрипела, стеная.
Братья одной кельи, сгибаясь под тяжестью ноши, давно измерили тропку, ведущую с угора к реке: сколько раз старшой таскал тут воду для поливки сада, а меньшой — лещей в трапезную.
Поозерский челн устлан осокой. Сильное течение и южный попутник живо скинули долбушку к Борисоглебской церкви. Возле храма в темноте они тихо выгрузили покражу и здесь же, на берегу, поклялись не выдавать друг друга.
В ту же ночь семнадцатого года меньшой, Алексашка, вернулся в Юрьево, вернулся нищим: еще накануне он свою долю ценностей продул побратиму в карты. А старшой, Сильвестр, угнездился в материнском домике, развел цветы, на кои большой спрос, а для разноса свадебных и траурных букетов приютил сироту.
На паперти она, толстопятая, стояла молча, с протянутой рукой. Сильвестр, член церковной двадцатки, осмотрел ее крепкие ноги, домотканую сорочку, крестьянскую грудь с медным крестом, бритую голову и посочувствовал: «За что сидела?»
Злая бабка извела ее приблудное дитя, а Машутка грех приняла на себя. Глаза у Сильвестра распутинские, ему не соврешь. Он поверил сироте, к тому же силач с детства боготворил женщин.
При доме околоточного Сильвестр работал дворником. Однажды полицейский бил жену. Сильвестр вломился в спальню, схватил тщедушного надзирателя и выбросил его в окно с третьего этажа. Вдова не выдала спасителя: божилась, что муж сам в белой горячке покончил с собой. Хозяйка надбавила дворнику жалованье, а тот вдруг ушел в монастырь.
Садовая тишина успокоила его душу не надолго. Брат по келье, беглый крамольник, приоткрыл ему монастырские тайны — пьянство, распутство и богохульство. Да и сам меньшой не расставался с картами. Он, хранитель ризницы и орловских драгоценностей, ставил на кон дорогие картины, табакерки в бриллиантах и кресты в самоцветах, Бывший дворник и раньше, скупая по дешевке краденое, знал, где их прятать. Земля вытесняет камни, но не клады. А главное, доверенная тайна не тайна.
Поначалу он и Машутке не доверял. В ночь перед крестным ходом Сильвестр прокрался в Кремль к святому амвону России и на нем расчистил икону богоматери (монах и раньше обновлял образа). Но тут в Детинец черт принес ночного извозчика. Заметая следы, Сильвестр миновал мост, Летний сад и не спеша спустился к перевозу, который круглосуточно обслуживали арестанты.
Он часто полуночничал — черпал из нужников «золото». Домой возвращался с бочкой на тележке. А тут явился налегке, кудлатый, с какой-то сумятицей в голове. Машутка, видать, приревновала и, сдвинув кровати вместе, учинила ему допрос: со слезами, ласками и клятвой верности до гроба.
Вскоре Сильвестр проводил сожительницу в Хутынь. Там родной брат садовника посадил гостей в лодку, засветил фонарь и подвез их к ночному пароходу «Коммунар». А в Питере вместе с гостинцами Машутка получила от покровителя первое задание и явочный адрес…
Братья по келье не искали встреч, а если случай и сводил их нос к носу, то не признавались. Один раз Пискун хихикнул, но старшой так глянул, что у того и скулы свело. Зато они поддерживали переписку.
Пискун жил в подвале с окнами, выходящими на базарную площадь. Здесь по утрам Машутка продавала цветы. Идя на службу обязательно через рынок, Пискун «покупал» у девицы, с медным крестом на груди, цветочки и «расплачивался» запиской, завернутой в бумажный рубль. Иногда Машутка «давала сдачи» от Сильвестра больше, чем полагалось.
Таким образом, Пискун предупредил старшего об опасности. Из губкома архивариус возвращался во второй половине дня; тем временем Машутка уже торговала на пристани. Обычно Пискун заигрывал с цветочницей, а на сей раз быстро взял белые астры для матери и сунул пухленький рублик: «Мигом домой!» Машутка не умела читать, но сердцем учуяла неладное. К счастью, до Дворцовой рукой подать. Сильвестр готовил вечернюю поливку — заполнял бочки колодезной водой. Он зашел в дом, прочел записку: «Брат, на твой след вышел охотник из Троицкой слободы. Это он сорвал крестный ход и потеснил вас от ковчега Россиюшки. Он связан с „монастыркой“. Скрывайтесь с Машуткой: на допросе она выдаст всех».
Сильвестр четырьмя ударами топора высвободил вонючую бочку, а тележку накрыл мешковиной. Добро схоронено в Хутыни. Здесь он с Машуткой жил скромнее скромного. Погрузили матрац, одеяло, подушки и белье на смену. Для хозяйства Машутка взяла самовар, а Сильвестр топор и жестяную банку с керосином. «Для фонаря перевозчика», — мысленно увязала Машутка и для отвода глаз первой вышла на улицу с букетом цветов. А он, с тележкой, догнал ее на Хутынском большаке.
На опушке лесочка Сильвестр банку с керосином почему-то оставил в кустах. Спутница смекнула, что невенчанный муженек задумал подпалить свою хату: все равно не жить в ней.
Вечером беглецы вошли в Хутынь не улицей, а с берега. Тут, у самого Волхова, чернела банька братана; в ней прилажена плавильня, похожая на каменку. Дверь даже не замкнута, а в предбаннике под полом — орловские драгоценности и золотой диск — остаток тринадцатифунтового сиона. В случае облавы брат должен подать сигнал — ударить колотушкой в жестяной лист, подвешенный в сенях. Так обычно оповещают самогонщиков о прибытии милиции.
— Ежели того, ты прямо за мной в лодку. Она рядом, — Сильвестр показал на Волхов, противоположный берег которого погрузился в потемки. — Мне пора…
Она боялась разлуки. Уходил душевный покой. «Уж лучше сразу спуститься по течению до Волховских порогов и там наняться на земляные работы». Вдруг заколотилось сердце. Она сообразила, что свой дом можно было поджечь сразу. Выходит, решил отомстить…
НА ОЗЕРЕЯ помог Анне Васильевне собрать калугинские афоризмы, потому она доверила мне даже затаенную мысль. Она не сомневалась, что сын приодел сирот не на средства детской комиссии, а на свои. Старушка поворчала, но выручила нас — укоротила Филины штаны и Сережину рубашку.
Вчетвером с тремя собаками на охотничьем челне, конечно, рискованно. И Калугин взял у соседа шлюпку с парусом и навесным рулем. Команда отменная: капитан, он же начальник похода, Николай Николаевич; я — помощник по всем статьям, а матросы, они же юные следопыты, — Филя и Циркач.
Северик дул безотказно: до скита добрались без весел. Небольшой песчаный островок, прославленный статуей Перуна — бога язычников, капитан выбрал для торжественного момента.
Под шумок могучих сосен и грачиный гомон он вручил Сереже тетрадь с карандашом, а Филе повесил на грудь немецкий фотоаппарат, предварительно поубавив ремешок.
— Друзья мои, вторьте мне! — шеф замедлил речь: — Мы, юные следопыты… стоя на земле Перуна… даем клятвенное слово… будем искать и хранить… старинные памятные вещи…
Начальник вскинул ладонь:
— Клянемся!
— Клянемся, — повторило эхо следом за ребятами.
Перегоняя собак, Филя и Сережа бегло осмотрели белую церквушку, кельи из красного кирпича и, к моему удивлению, ни записей, ни снимков, ни одного вопроса. Увы, ребят интересует не то, что наличествует, а то, чего уже нет: ведь существующее не убежит, а прошлое в таинственной дымке. Вот новеллы профессора и музейщика увлекли их.
Они и сейчас рты разинули, слушая о языческом боге грома. Еще бы! Деревянный идол имел серебряную голову и золотые усы. Вчерашние воришки знают цену благородного металла. И совсем забыли про собак, когда краевед вычертил на песчаной глади загадочную паутину ходов и тупиков:
— Друзья мои, вот схема каменного лабиринта. Встарь он находился чуть выше. И уцелел до тысяча восемьсот двадцать шестого года. В то лето здешние монахи закладывали каменный фундамент под кельи, — шеф палочкой показал на красные постройки и перевел указку на чертеж. — Перед дальней дорогой новгородцы здесь приносили в жертву овец и сдавали экзамен на смекалку. Молодой ушкуйник входил в лабиринт, петлял по коридорчикам и, пока песок из верхней чашечки сыпался в нижнюю, искал выход… из западни…