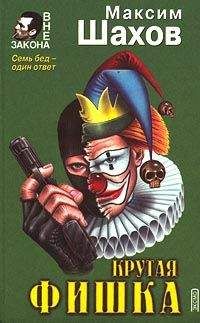Виктор Устьянцев - Крутая волна
— Дак ведь не примут.
— А я зачем? Помогу, у меня там знакомых много, и на счету у начальства я на хорошем. Только вот лет тебе маловато. Но ведь ты Девяноста девятого года, кто там будет разбираться в январе ты родился или в декабре. Сейчас делото опять к войне идет, набор большой делают, возьмут.
— Отец не пустит.
Отец часто засиживался у них в сенях, много говорил с Петром про политику, про какие‑то партии, про восстание, но Гордейка в этом совсем не разбирался, ему даже хотелось, чтобы отец поскорее ушел, а дядя Петр рассказал очередную историю из своей морской жизни.
Иногда Петр вдруг вставал посреди ночи, ку- да‑то уходил и долго не возвращался. Гордейка, так и не дождавшись его, засыпал. Но однажды он решил подсмотреть, куда уходит дядя, тихо крался за ним. Петр задами прошел к огороду Васьки — мельника, перемахнул через прясло, и Гордейка видел, как навстречу ему метнулся кто- то в белом. Потом услышал жаркий шепот Акульки:
— Что же ты припозднился? Я уж извелась вся.
— Боялся, что Васька не спит.
— Да ведь он ноне в Петуховку уехал покосы смотреть, к завтрему только и возвернется.
— Что же не сказала, я бы раньше пришел.
— Как же скажешь? Я днем‑то боюсь с тобой видеться, ну как узнают?
— А пусть! Жена ведь ты моя, хоть и бывшая.
— Да ведь у меня от него четверо…
Они ушли к дому, а Гордейка всю ночь караулил на углу проулка — а вдруг Васька приедет?
Петр возвращался после вторых петухов, опять задами. Гордейка видел, как над плетнями двигалась его курчавая голова. Гордейка побежал домой, чтобы опередить дядю, но они столкнулись у самых ворот.
— Что так рано встал? — спросил дядя.
— Не спится.
Потом, когда опять улеглись в сенях, Гордейка все‑таки предложил:
— Давай, когда надо, я Ваську‑то покараулю.
Петр ничего не ответил, долго раскуривал самокрутку, потом сказал:
— Нечего тебе в это дело мешаться.
А через несколько дней они вчетвером: отец, дядя Петр, Сашка и Гордейка — уехали на Воронке к Марьиной пустоши на покос.
Травы в этот год выдались хорошие, за два дня они вчетвером повалили всю пустошь и начали выкашивать в колках. Трава здесь жиже и мягче, косить легче да и прохладнее. За два дня на пустоши Гордейка с непривычки так вымотался, что теперь то и дело отдыхал. Отец с Сашкой уже обкосили свои колки и пришли помогать Гордейке. Втроем они быстро выкосили остатки, к тому времени и дядя Петр подошел, и они все отправились к реке. Там выкупались, Петр стал показывать Гордейке, как надо плавать, а отец с Сашкой поплыли к яру ловить раков. Они наловили полное ведро и, когда вернулись к балагану, развели костер.
Но сварить раков не успели: прискакал верхом на Васькином Гнедке засыпка Трофим.
— Эй, мужики, беда! — еще издали крикнул он. — Давай все в деревню, сход будет.
— А что случилось? — спросил отец, поднимаясь с земли.
— Война. Ерманец на Расею напал. Есаул Стариков приехал, сход собирает. Где тут Федька Квашня косит?
— А вот по этой тропке поедешь, за увалом по правую руку будет, — указал отец.
Трофим ускакал дальше, а отец пошел запрягать Воронка.
Когда они приехали в деревню, у поскотины собрались почти все ее жители. Есаул Стариков, при форме и шашке, стоял в ходке и объяснял, кто подлежит мобилизации в первую очередь. Брали сразу пять возрастов, мужики, которым надо было идти, стали гуртоваться возле ходка. Заголосили бабы.
Стариков, заметив Петра, подозвал его и сказал:
— А тебе, служивый, надо завтра отправляться в город и с первым же эшелоном к месту службы. Есть такой приказ: всем отпускникам вернуться немедленно.
Не дожидаясь конца сходки, они отправились домой собирать дядю Петра в дорогу.
Дома уже топилась печь, в кути толкались Степанида с Нюркой, Шурка крошила на столешнице лук.
— Знамо бы дело, дак тесто поставить да пирожков на дорожку настряпать, — будто оправдывалась Степанида. — Давай, Нюрка, зови всю родню на сташшиху.
Тащили все, что могли: хлеб, огурцы, сало, кто‑то принес курицу, бабы чередили ее во дворе. Неожиданно заявились Васька — мельник с Акуль- кой. Васька припер трехведерную корчагу браги и окорок фунтов на двадцать.
— Примете, тетка Стеша? — робко спросила Акулька, а сама умоляюще посмотрела на Петра. — Как‑никак родней доводились…
— Проходите, — разрешил Петр, и Степанида засуетилась, смахивая с лавки пыль:
— Вот сюда садитесь, гостенечки дорогие, уж не обессудьте, коли что не так.
— А разве тебя не берут, Василий? — спросил Егор. — Твой год будто выкликали.
— По болезни ослобожденный я, Егор Гордеич. Грыжа у меня давно нажитая, еще когда засыпкой был при Петре Евдокимовиче. Ну‑ка, попробуй поворочай мешки‑то!
А в кути Акулька шептала Степаниде:
— Врет он, есаул‑то две телки угнал со двора, вот и ослобонил.
За столом было шумно и тесно, все даже не уместились, которые пришли позднее, устраивались в сенях на нарах. В передний угол посадили Петра, по правую руку от него — Егора, по левую— Гришку с Нюркой. Потом в обе стороны сели дед Ефим, Васька с Акулькой, сват Иван с Авдотьей и прочие родственники. Гордейка, Сашка, Настя и Шурка сидели в кути за столешницей.
Первую здравицу говорил дед Ефим:
— Ты, Петыпа, японца воевал, сталыть, тепе- ря ерманца воюй да живой вертайся. С богом!
Чокнулись, не спеша выпили, долго молчали, слышалось только сопение, да кто‑то громко чавкал. Потом заговорили все сразу:
— И чего этому ерманцу надо?
— Мужики уйдут, кто хлеб убирать будет?
— Не слышно, коней забирать будут?
— У Фроськи шестой вот — вот народится, а Гань- ку забирают.
— Осподи, и за что же наказание такое на людей падает?
Гришка Сомов приставал к Нюрке:
— Следующий год — мой. Как меня забараба- ют, гулять зачнешь?
— Да что ты, бог с тобой!
— Знаю я ваше сусловие! Вон Акулька‑то как.
Акулька то и дело подливала Ваське самогона в кружку. Васька пил с охоткой, с лица его не сходила радостная улыбка, и не понять было, чему он больше радуется: тому ли, что его самого не взяли, тому ли, что Петр уезжает.
— Ты пошто ему в брагу‑то подливаешь? — спросила Степанида. — Едко больно, потом башка болеть будет. Да и не скусно.
— Ничего, он жадный, все вылакает. Я бы ему, алодею, яду подлила, да ребятишек жалко, и грех на душу брать не хочу.
— Что ты, осподь с тобой! Не лей боле.
— Ни черта ему не сделается!
Однако Васька скоро вывалился из‑за стола, и его вынесли на крыльцо. За столом освободилось место, и Петр позвал Гордейку. Усадив его рядом, он обнял его и сказал Егору:
— Люблю я твоего Гордея — грамотея. Своего сына не нажил — он метнул взгляд в сторону Акульки, — так он мне вроде бы сын. Не обижайся, Егор, а все так, как я говорю. И хотел бы я, чтобы он человеком стал. Пусти ты его со мной.
— Еще чего выдумал! — всполошилась Степанида. — Мальчонку — и на войну.
— Не на войну, а в школу. Пусть учится и около меня будет.
— И не думай! Егор, ты‑то чего молчишь?
— А как ты, Гордейка? — спросил отец.
— Я бы поехал. Если отпустите.
— Может, отпустим? — спросил Егор Степаниду.
— Да вы что, окаянные, с ума спятили? Мало мне твоей каторги, так еще сына отнимаете…
Она ругалась долго и, как всегда, крикливо. Потом вдруг заплакала. А выплакавшись, сказала:
— Разве я ему добра не хочу? Да ведь как оторвешь от себя? Решайте сами.
Решали всей родней. Судили и рядили всяко, но пришли к одному: раз уж в их роду завелся первый грамотей, загораживать ему дорогу не надо, пусть выбивается в люди.
5Уезжали рано, еще по росе, чтобы засветло успеть в город. До поскотины провожала вся семья. Степанида, вытирая слезы кончиком платка, наказывала:
— Ты возле дяди Петра держись, он тебе теперь заместо всех нас будет. Старших всех слушайся, они тебя и научат добру‑то. Да отпиши, как приедешь в эту самую Крынштату. И воды остерегайся, в ей потопнуть недолго…
Дядя Петр с отцом говорили о чем‑то своем, а Нюрка все совала и совала Гордейке в узелок то яйца, то шаньги, то маковых зерен.
— Гринька у меня не жадный, сам велел в дорогу тебе припасу собрать.
Сам Гринька шагал сзади всех и сбивал палкой головки одуванчиков. Чуть впереди него тащилась Настя и тоже собирала в уголок платка крупные слезы — точь — в-точь как мать. Сашка держался за облучок и все повторял:
— Надо же, Гордейка в самом Петербурге будет! Надо же!
Должно быть, он завидовал Гордейке.
У поскотины все молча постояли, потом Егор понужнул Воронка, а С|тепанида запричитала:
— Ой, сыночек мой ненаглядный, на кого ты нас спокидаешь?