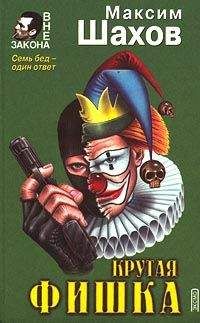Виктор Устьянцев - Крутая волна
— Лезь на печь, а то посинел, как опупок. Кешка, принеси дров.
Гордейка быстро разделся и полез на печь, а Кешка Косторезов пошел в подсарзй за дровами. На печи Вовка, Люська и Венька Соколов хлопали потрепанными картами — играли в пьяницу. Гордейку тут же приняли играть. Потом они высыпали из пимов помидоры, выбрали пожелтее и стали есть. Вскоре к ним присоединились и Кешка с Юркой.
Ночевал Гордейка тут же, на печи, между Вовкой и Юркой. Девчонки спали на полатях, оттуда долго доносился шепот — это Люська что- то опять рассказывала. Она была вся в мать, та кая же говорунья, обладала неиссякаемой выдумкой, ее рассказ иногда длился несколько дней подряд и обрастал все новыми и новыми страшными подробностями. Девчонки, слушая ее, замирали от страха, ночью кто‑нибудь из них вскрикивал во сне или начинал стонать. Тогда Вовка, спавший чутко, нашаривал в углу пим и швырял его в темноту полатей. Почему‑то это всегда помогало — в избе опять водворялась тишина.
Наутро, когда Гордейка вернулся к Федору Пашнину, там уже не было ни отца, ни дяди Цезаря.
— Что, брат, проспал отца‑то? — спросил Федор. — Ты на него не обижайся, он уехал чуть свет, повез Цезаря в город.
3Отец вернулся из города только на четвертый день. Он привез Гордейке настоящий ранец, точь- в — точь как у Саньки Старикова, только поновее. Гордейка переложил из холщовой котомки книжки, надел ранец за спину и отправился к Вициным. Он нарочно сделал круг и прошел мимо дома есаула Старикова, но Санька, должно быть, не видел его, а то бы выскочил. Зато на Вициных ранец произвел большое впечатление — все по очереди примеряли его и рассматривали, как диковину. Только Люська небрежно скользнула по нему взглядом и фыркнула:
— Подумаешь, сумка!
Гордейка знал, что ей тоже хочется посмотреть и примерить ранец, но она привыкла сама быть окруженной вниманием и сейчас ревниво следила за тем, как все увиваются около Гордейки.
— Не сумка, а ранец, — поправил Гордейка.
— А ты за… — Люська вовремя замолчала, но все уже догадались и дружно прыснули.
Гордейка замахнулся на нее ранцем, но ударить не успел: Люська вцепилась ему ногтями в лицо. Он взвыл от боли и схватил Люську за руку. Но она вся извивалась, как уж, иногда ей удавалось вырвать то одну, то другую руку, и тогда она снова вцеплялась ему то в лицо, то в шею. Наконец он загнал ее в угол, тут она уже не могла вырвать руки и пыталась его укусить. Он одной рукой обхватил ее за шею, чтобы приподнять подбородок и не дать ей укусить за нос. Они поневоле прижались друг к другу. Гордейка почувствовал ее тугие, уже почти оформившиеся груди, частое биение ее сердца, жаркое дыхание. Они вдруг оба смущенно потупились и покраснели и еще какое‑то мгновение стояли, тесно прижавшись друг к другу, хотя Гордейка уже выпустил Люську и только его рука оставалась на ее плече. Она легким движением сбросила руку с плеча и тихо и мягко сказала:
— Уйди.
И он отошел.
А все остальные смотрели на них с недоумением— они никак не предполагали такого мирного исхода борьбы, потому что ни Гордейка, ни Люська никогда еще никому не уступали.
Гордейка поспешно занялся своим ранцем: от него уже оторвали один ремень. Сунув ремень в ранец, Гордейка схватил пальтушку и выскочил в сени.
Он забрался в огород, за баню, и долго сидел там, пытаясь понять, что же произошло. Люська ему всегда нравилась тем, что умела быть главнее и умнее всех подруг, он любил слушать ее нескончаемые рассказы, иногда сам подсказы вал ей неожиданные повороты в ее повествовании, и она быстро развивала его дальше. Ему нравились ее глаза — они были особенные, с поволокой, хотя он не мог бы точно сказать, какого они цвета. Цвет их каждый раз менялся, в глазах появлялись какие‑то новые оттенки. Когда она смеялась, глаза ее становились такими же ласковыми и бархатными, как трава в логу возле церкви.
В остальном она была похожа на всех других девчонок, и Гордейка в общем‑то относился к ней так же, как и к другим, — со снисходительностью мальчишки. Правда, Люська была почти на год старше его, ей шел уже пятнадцатый, но это различие в возрасте было совсем незаметным, потому что Гордейка статью удался весь в деда, на вид меньше пятнадцати и не дашь.
И вот теперь он почувствовал в себе что‑то еще не изведанное, приятное, но, как он догадывался, стыдное. Люська для него вдруг перестала быть просто девчонкой, он почувствовал в ней какую‑то таинственную силу, способную перевернуть в нем все, догадался, что Люська и сама сегодня впервые узнала эту силу и тоже стыдилась ее.
После этого он одиннадцать дней не заходил к Вициным. На двенадцатый, возвращаясь из школы, он увидел, что Люська с девчонками катается со елани на санках. В тот момент, когда он проходил внизу по тропинке, Люська неслась ему наперерез.
— Берегись! — крикнула она.
Но Гордейка, вместо того чтобы отступить в сторону, вдруг плашмя упал ей на колени. Несколько метров они так и катились — он лежал у нее на коленях. Потом санки вдруг занесло, они раза два кувыркнулись. Теперь Гордейка и ЛюСь- ка оба лежали в сугробе и хохотали. Когда поднялись и стали отряхиваться, лица их оказались рядом, и Люська вдруг с тревогой воскликнула:
— Ой, ты поранился! — Она зубами стащила варежку, протянула к нему руку и осторожно смела ею со щеки снег. И опять, как тогда, тихо и мягко сказала: — Это старая. Не зажила еще, — Она погладила ладонью по его щеке, а Гордейка покорно отдавался этому поглаживанию, стараясь плотнее прижаться к ее ладони.
— Вон как я тебя разукрасила! — Она засмеялась звонко, искристо. — Не сердишься?
— Ну вот еще!
— Тогда почему перестал к нам заходить?
— Если ты хочешь, приду.
— Больно ты мне нужен! — сказала она совсем другим, чужим, голосом и усмехнулась.
Он знал в ней вот эту способность меняться. Иногда она кого‑нибудь из девчонок приласкает, воркует около нее, воркует, а потом вдруг оттолкнет. К этим ее выходкам уже привыкли и не обижались на нее. Но сейчас Гордейку охватила такая злость, что он даже заскрипел зубами. Он хотел сказать ей тоже что‑нибудь обидное, но ничего не пришло в голову, да и было уже поздно: Люська подхватила санки, быстро и ловко полезла на елань.
Он пришел назло ей, но Люська сделала вид, что вообще не заметила его появления. В этот день, как нарочно, в их доме собралось много ребятни: тетка Любава вчера ездила в город и, как всегда, никого не обделила. Даже Гордейке, пришедшему после всех, достался комочек слипшихся леденцов, который он тут же уступил Юрке.
Опять около Люськи сгрудились все, просили досказать историю про принца, которого татары хотели повесить за то, что он полюбил красивую татарку Зулею и хотел с ней обвенчаться в русской церкви. Немного поломавшись, Люська начала рассказывать, а Гордейка стал одеваться. Он нарочно не торопился, чтобы Люська видела, что он собирается уходить. А она даже не смотрела в его сторону.
Но как только за ним захлопнулась дверь, Люська вдруг на полуслове оборвала свой рассказ:
— А ну вас! Надоели.
И как ее ни уговаривали, рассказывать больше не стала, а сидела весь вечер в углу нахохленная и злая. Она и на другой день была не в настроении, все у нее валилось из рук, а ночью Любава слышала, как дочь всхлипывает в постели.
Когда наутро вся семья собралась за столом, Любава сказала:
— Сварю‑ка я к обеду горошницу. Дак ты, Вовка, позови Гордейку, он до нее шибко охочий.
Она заметила, как за поволокой Люськиных глаз мелькнули искорки.
— Вот еще! Терпеть» не могу эту горошницу! — капризно сказала Люська.
«И в кого она такая гордячка? — думала Любава. — Нелегко ей будет жить с таким‑то упрямством, мужики любят ласковых да податливых…»
4Учился Гордейка хорошо, год окончил с похвальным листом, потом этот лист Степанида показывала всей деревне. И вся деревня ходила к ним писать прошения и письма, к Гордейке стали относиться уважительно, а некоторые даже величали его Гордеем Егоровичем. Только дьякон Серафим, потерявший доход на этом деле, ворчал:
— Учить мужика — одно баловство и развращение.
Но самой дорогой для Гордейки была похвала дяди Петра, неожиданно приехавшего на побывку. В его избе жили теперь Нюрка с Гришкой Сомовым, и Петр поселился у Егора. Спали они с Гордейкой в сенях: Петр — на нарах, Гордейка — на сундуке. Дядя Петр по ночам рассказывал всякие морские истории. Он теперь служил в Кронштадте, в школе юнг, был даже каким‑то начальником, наверное небольшим, потому что над ним стояло еще много начальников, которых он ругал.
— Есть там один — совсем зверь. Генерал — губернатор Вирен. Должно, из немцев. Этот с живого шкуру сдерет… — И неожиданно заключал: — А все‑таки жизнь там интереснее тутошней. Давай, Гордейка, к нам в школу, человеком выйдешь.