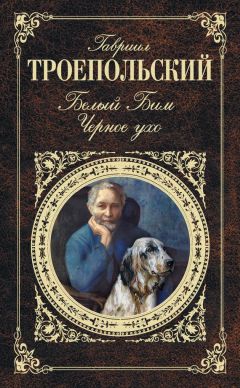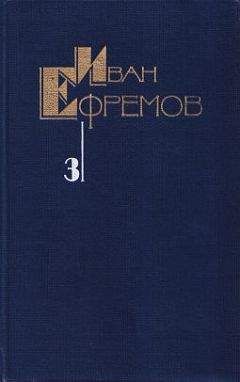Гавриил Троепольский - Собрание сочинений в трех томах. Том 3.
— Да.
— Это сколько в месяц? — Он считает в уме. — Двадцать два и пятьдесят соток. — Думает.
— Пойдет! — заключает Домна.
— Я что? У меня семейство. Баба не возражает. Оно и верно, — вспыхнул он радостно, — семьдесят пять соток, и никакая гайка. Что Игнату больше надо? Ничего не надо.
Вечереет. Игнат сидит верхом на пожарной бочке в пожарном сарае. В руках у него балалайка. Изредка отмахивается от мух. Лицо грустное-грустное. Он, тихонько потренькивая струнами, склонил голову набок и запел:
Ах, где вы сокрылись,
Ах, кари глазы-ыки…
— Нет, не так! — Оборвал и запел снова, встряхивая головой при ударе по струнам:
Ах, где вы сокрылись…
— Нет, не так! — Он ловко почесал спину углом балалайки, схватил горстью муху, посмотрел на нее в двух пальцах, бросил в бочку и наблюдает за рябью. Потом неожиданно еще раз пробует тот же куплет и замолкает. Ставит балалайку между коленями, опирается подбородком о гриф и задумчиво говорит: — Вот это попал! Шесть тысяч имущества на мне… Зато Игнату доверили! Игнат не украдет, Игнат будет беречь… Да. И пожары тушить будем.
Подходит Хват:
— Здорово!
— А-а! Здорово! Садись на бочку, пока пожару нету.
Однако Игнат соскочил с бочки и, украдкой оглядываясь на Хвата, спрятал под себя сбрую и сел на нее, прислонившись спиной к бочке.
— Ну и заловили тебя, Игнат Прокофьич. Куда попал! Шесть тысяч имущества. И все Шуров. Он ведь и Самоварова обманул: напротив ему сказал о тебе. Прохор Палыч как узнал, так — ой! — и стучал кулаком! Тебе весь резон на Шурова подписать. Вот, принес теперь линованную бумагу.
Игнат бренчит на балалайке.
— Ну, что ж ты меня гоняешь целый месяц? — уже озлобился Хват. — Завтра да послезавтра, да бумага не та, да не линованная. Вот скажу Прохор Палычу — «не подписывает», — он тебе пропишет!
Вдруг лицо Игната преобразилось. Он будто испугался и говорит:
— Не говори, пожалуйста! Христом-богом прошу! Он меня тогда… Ух! Давай бумагу-то! — Берет бумагу из рук Хвата и читает бормоча. После прочтения лицо изменяется на обычное, равнодушное. — Ну, давай подпишу.
— Подписывай, подписывай.
— А ручку принес?
— Что-о?
— Ручку, говорю, и… чернила.
— Да что я, писатель — с собой ручку носить!
— А я тебе кто, счетовод — при себе ручку иметь? Вона! Выдумает тоже! Иль у тебя рассужденья нету?
— Тьфу! — плюет Хват и бежит за ручкой. — Сейчас принесу.
Пауза.
— Принес? — спрашивает Игнат.
— На, подписывайся тут, — тычет пальцем Хват.
— Сюда? — спрашивает Игнат.
— Сюда.
— Нет, не сюда, а вот сюда! — и Игнат комкает бумагу, бросает в бочку и быстро садится на горловину бочки, — Тут она! — постучал он ладонью по бочке.
Хват вытаращил глаза. А Игнат достал блокнотик, вечную ручку, отряхнул ее заправски и говорит:
— Тут у меня записаны все, у кого трубы не чищены; есть еще и чистые листки. Ты не волнуйся, Григорий Егорович, я свое напишу, как и полагается.
Хват недоумевает. Игнат пишет и подает Хвату листок.
«Порочить честного человека Игнат Прокофьевич Ушкин не будет. К сему — Ушкин».
Хват читает. Злобно смотрит на Игната и цедит сквозь зубы:
— В ихней шайке! Ну, смотри, разболтаешь — будешь тушить пожар на своей хате.
— А мне какое дело, — невозмутимо говорит Игнат. — Где ни тушить — все равно тушить… Иди-ка ты, Гришка, домой! Ты мне наблюдать мешаешь.
Гришка удаляется, рубя рукой воздух. Скрывается за углом.
Из-за угла пожарного сарая выглядывает Петя, затем Терентий Петрович.
— Ушел? — спрашивает Петя.
— Ушел, — отвечает Игнат улыбаясь.
— Бумага-то у тебя?
— Тут. — Игнат достает ком мокрой бумаги, разворачивает и заключает: — Сам черт не разберет — расплылось все. Не туда сунул.
— А случаем пожар у тебя, то мы свидетели. Все слыхали… Ладно. Теперь давай, Петруха, манифест, — говорит Терентий Петрович.
Петя достает цветной лист бумаги. Они все втроем читают.
— Не! Тут не так, — говорит Терентий Петрович. — Цари так не писали заглавие.
— А как? — спрашивает Игнат. — Мы же тогда не родились?
— Я и сам не помню. Неграмотный был. Откуда же мне знать? Ты, Петруха, заочно на агронома учишься — должон знать.
— Пойду, у дедушки спрошу! — вскакивает Петя и бежит.
Евсеич в хате набивает патроны. Над столом портреты двух сыновей Евсеича, погибших на фронте. На одного из них, как копия, похож Петя. Тося сидит за столиком и пишет.
Евсеич говорит:
— А Петр Кузьмич, скажу я тебе, Тося, такой человек, что весь колхоз за него станет. Оно, конечно, и твоя жалоба в райком пользительна будет.
— Новый секретарь райкома — умный человек, — говорит Тося.
— Да к, как он тебе сказал-то, когда ты была в райкоме?
— Говорит — разберусь.
— То-то вот и оно: ясно дело, разберется. На то он и поставлен к своему посту, чтобы разбираться. Не может же колхоз быть без председателя… А ты уж сочинила жалобу-то?
Вбегает Петя. Тося к нему:
— Петя! Твою контрольную проверила. Что-то она хуже предыдущей.
— Тут дело посерьезней, Таисия Михайловна… Контрольную переделаю… А тут… Дедушка! Как цари писали манифесты?
— А на кой ляд они тебе сдались — цари?
— Для истории, дедушка…
— Ну, для истории — валяй… Значит, так… Погоди, вспомню… Значит, так. «Богом данной мне властью… Мы». Не я, а мы… Чуешь — «мы».
— Чую.
— «Мы, царь польскай и князь финляндскай и проча, и проча, и проча».
— А не писали: «И тому подобно?»
— Нет, не писали. Писали — «и проча».
Петя уже выбегает из хаты, но за ним выбегает и Тося:
— Петя, скажи, что затеял?.. Я о чем-то догадываюсь!
Петя шепчет Тосе на ухо, оглядываясь по сторонам. Тося сначала серьезна, потом смеется все больше и больше, до слез. Петя убегает и на бегу кричит Тосе:
— Заседание правления и сегодня будет!
Комната Шурова. Шуров один. На листе бумаги:
«Секретарю райкома партии товарищу Попову И. И.
От члена партии Шурова П. К.
Заявление…»
Входит Катков. Он стал у притолоки и смотрит на Шурова. Шуров пишет, не замечая вошедшего. Катков тихо говорит:
— Петр Кузьмич! Опять заседание правления.
— Опять? — спрашивает Шуров.
— Пропали не спавши! Кружится голова… Одному сторожу Евсеичу только и покой ночью, не трогает пока.
— Что ж, надо идти… Там глаз да глаз нужен…
— Ну, пойдем.
Шуров собирает бумаги со стола и спрашивает:
— Решение парторганизации не отсылал в райком?
— Нет еще.
— Тогда возьми и мое заявление и вместе отошли. Дальше мы терпеть Самоварова не можем.
Катков запечатывает конверт, куда предварительно положил и заявление Шурова.
— С надежным человеком надо послать, — говорит он.
— Евсеичу отдай сегодня, а утречком отвезет с попутной машиной… Ну, пошли на ночное бденье…
Улица вечером. Шуров и Катков идут молча: каждый думает. Так идут люди, у которых многое переговорено, которые понимают друг друга с полуслова.
У палисадника стоят Тося и Алеша. Алеша, волнуясь, говорит:
— Тося! — В его дальнейшей прерывающейся речи слышится и горячая любовь, и грусть, и в одно и то же время чувство достоинства человека большой души. — Для меня Петр Кузьмич — больше чем родной брат… Даже помог мне заочно кончить техникум… И я знаю, вы его любите. Как Же мне быть?! Я — уеду отсюда. — И Алеша смотрит на Тосю вопросительно, поняла ли она? Те ли слова он сказал? И вдруг безнадежно говорит: — Не поймете…
— Алешенька! Какой же вы…
— Тося! — благодарно восклицает Алеша, не отрывая от нее глаз.
Последние слова Тоси слышат Шуров и Катков.
— Обойдем их, Петр Кузьмич, — говорит Катков.
— Обойдем, — как эхо, отзывается тот.
Тося видит отходящих Петра Кузьмича и Каткова. Дальнейшего разговора Тоси и Алеши Шуров и Катков не слышат.
— Алеша! Не быть мне с Петром Кузьмичом — не любит он меня, — говорит Тося.
Идут Шуров и Катков.
— Э-э, Петр Кузьмич! — говорит Катков.
Шуров идет молча. Он смотрит вперед. Катков положил ему руку на плечо и продолжает:
— А ну, постой. — Они остановились. — Любишь?
Шуров не отвечает.
— Любишь? — повторяет Катков..
Шуров смотрит вперед неподвижно и отвечает Каткову:
— Нет.
— Не верю. Промолчал — не верю.
— Слушай, Митрофан. — Шуров волнуется внутренне, но говорит тихо, сдержанно, душевно. Он взял Каткова за пуговицу, теребит ее. — Как быть? Они любят друг друга… И я… Мне… Ведь Алешу я воспитал: он мне как родной.
— Понимаю: Алеша… Трудно, Петр?
— Трудно, — почти неслышно отвечает Петр Кузьмич.