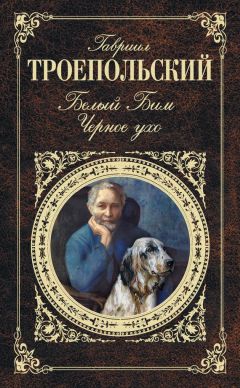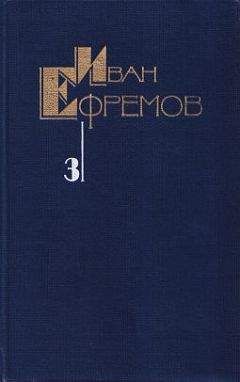Гавриил Троепольский - Собрание сочинений в трех томах. Том 3.
Семен Васильевич пятится задом к двери, шевелит усами. А Терентий Петрович идет дальше.
Тося и Шуров идут по улице. Позади Алеша и Петя.
— Что за странный человек Терентий Петрович? — недоумевает Тося.
— Честнейший из всех, — говорит Шуров. — Трудолюбив до бесконечности. Он теперь обойдет те дворы, которые заслуживают общественного порицания. Но вот беда: как бы сделать, чтобы смелость приходила к нему трезвому? Я давно об этом думаю.
— И вы обязательно придумаете. Все придумаете! Вы всех насквозь видите.
— Нет, Тося. Я вот и самого себя, кажется, еще не вижу.
Петя толкает Алешу в бок:
— Давай уйдем. Видишь, разговорились.
Алеша стоит потупясь. Петя отходит, по Алеша смотрит вслед Тосе и не двигается с места.
— Ты что, окаменел? Пойдем! — зовет Петя. Он снова возвращается к Алеше. Смотрит на его лицо, сдвигает фуражку на глаза, смотрит вслед Шурову и Тосе.
Маленький, крытый железом, уютный домик Шурова. Палисадничек. Небольшая клумба разбита для посадки цветов.
Шуров и Тося подошли к палисадничку.
— Так. Завтра начинаются напряженные дни — сев. Давайте отдыхать, — Он подает руку Тосе.
Тося опускает глаза. Ей не хочется уходить. Но Шуров не замечает этого. Он пожимает ее руку и говорит:
— До завтра… Думаю закрепить вас на посевную в первую бригаду Пшеничкина. Он самый молодой из бригадиров — ему нужна постоянная агрономическая помощь.
— Вы так заботитесь о нем.
— Алеша вырос на моих глазах… Был в моей роте на фронте… Алеша хороший. Вам с ним будет хорошо.
— А я думала… — Тося запнулась. — Да… Алеша хороший.
Тося смотрит на домик Шурова и спрашивает:
— Может быть, вам моя помощь потребуется? Я бы…
— Не стоит, Тося… Я привык… До свиданья!
Тося уходит. Уже вечереет. Шуров один на том же месте.
У телеграфного столба стоит Терентий Петрович. Он прицеливается на следующий столб, мотает головой, еще раз прицеливается и говорит:
— Дойду. Точно дойду. Ну, Терентий Петрович, смелее! И-их! — И он, выписывая кривую, идет к следующему столбу.
У следующего столба повторяется то же самое. Против Шурова он останавливается. Тот все стоит у палисадника. Терентий Петрович пристально смотрит на него и поворачивает к нему от столба приговаривая:
— Прямо, прямо, на Петра Кузьмича! — Но «прямо» у него не выходит, и он той же кривой подходит к Шурову. — Петр Кузьмич! Дорогой мой! Сказать тебе правду?
— Скажите, Терентий Петрович.
— Любим мы тебя все. Ты человек справедливый. За то и любим. Точно. Трезвый я не позволил бы так сказать, а пьяный сказал. Смелый я сейчас до бесконца. Во! Что в душе есть, то и скажу. Все скажу! Точно говорю.
— Выходит, смелая-то водка, а не вы!
— Но?! — вопросительно восклицает Терентий Петрович.
— Пьяный человек — всегда… по-лу-ум-ный, — говорит отчетливо Шуров.
Терентий Петрович поправляет картуз, сдвигая козырек с уха в надлежащее положение, и уже в полном удивлении ужасается:
— Полоу-у-умн-а-ай! — Он даже чуть протрезвел, отдаленно понял, что Шуров прочел ему своеобразную нотацию так же, как «на обходе» делал Терентий Петрович другим.
— Вам помочь дойти, Терентий Петрович? — с оттенком теплой иронии спрашивает Шуров.
— Не-не-не! Я сам! С помощью-то и полоумный дойдет… Поше-ел!
Он несколько шагов делает прямо, стараясь не казаться пьяным, но не выдерживает и кривляет снова, выбравшись, однако, на самую надежную «дорогу» — линию столбов.
Вечер. Тени от деревьев и хат. Слышна гармошка. Издали — частушки. Где-то пляшут. Настя среди девушек и парней поет частушку:
Я любила, ты отбила,
Я не суперечила
Ты Алешу захватила
Только на два вечера.
Эту частушку слышит Тося. Слышит Алеша. Шуров прислушивается к частушке Насти.
Шуров один. Он идет за село, в поле. Останавливается, щупает пашню. Смотрит на горизонт. Небо чистое. Появилась вечерняя звезда. Он идет дальше… Вдали тракторный отряд. Около будки копошатся трактористы.
Бригадир тракторного отряда Федулов Василий Васильевич встречает Шурова.
— Добрый вечер!
— Добрый вечер! — отвечает Шуров.
— Не вытерпели всего выходного? — спрашивает Костя.
— Как и ты, — отвечает Шуров.
Костя улыбается. Он уже в комбинезоне; вместо праздничной фуражки на нем треух.
— Давай еще раз посоветуемся, Василий Васильевич, — говорит Шуров.
В тракторной будке стоит рация, плакаты, койки в два яруса. За столом Шуров, Костя, Федулов.
— Завтра сев, — говорит Шуров. — У тебя два маршрута: тот, что мы вместе с бригадирами составляли, и второй — самоваровский.
Трещит мотоцикл и останавливается около будки. Входит Катков.
— Так и знал: Петр Кузьмич здесь! Вот хорошо.
— Обсуждаем «варианты», — говорит Федулов.
Все думают. Шуров говорит решительно:
— Отменяю сумасбродный план Самоварова. Свеклу сей по зяби, вику оставь в том же поле, где указано в нашем плане. О картофелище скажу завтра — посмотрю, подумаю.
— Надо думать, — говорит Катков и вдруг неожиданно спрашивает: — Петр Кузьмич! А ты уверен в своей правоте?
И Шуров, глядя удивленно на Каткова, медленно встает. Взоры присутствующих сосредоточены на Шурове. Это он должен ответить на вопрос, волнующий всех каждую весну: «Будет хлеб или нет?» Шуров отвел глаза от Каткова, Он смотрит в окошко будки и говорит:
— Хлеб. Нам нужен хлеб. Много хлеба.
И окошко будки раздвигается. Мы видим бескрайние поля, ожидающие посева.
— Для этого нам — нужна вода. Самая богатая почва без воды не даст урожая. Воды очень много на земном шаре, но у нас, в степи, дорога каждая ее капля. Вспомните прошлое лето. Но где вода? Только в почве. Экономить воду — вот в чем задача агротехники в степной зоне. Можем ли мы, имеем ли мы право — на двадцать пять сантиметров иссушить почву весновспашкой на картофелище?! Это… это… растрата!
Костя встал. А Шуров продолжает:
— Если кто-нибудь растратит тысячу рублей — его будут судить по закону. А растрата миллионов центнеров зерна «узаконена» «агроправилами», действующими, как устаревший шаблон, как «надежда» на дождь. За такую агротехнику держатся самоваровы!
Костя стукнул кулаком о стол.
— Факт!
— Если кто-нибудь вздумает на каком-либо заводе вдвое уменьшить выход продукции, его будут судить, — уже вне себя говорит Шуров. — Но нам дают в посев яровую пшеницу, которая никогда у нас не родит. Можем ли мы обо всем этом молчать?.. Можем ли мы допустить посев свеклы по весновспашке, где она при сухой весне даже и не прорастет?
Катков воодушевлен. Он смотрит в лицо Шурова. Шуров говорит настолько горячо, что начинает сбиваться:
— Хлеб! Он не только нужен нам, колхозникам. Хлеб — это рабочие заводов, хлеб — это армия, хлеб — это… это… — он чуть смутился того, что будто бы говорит прописные истины. — Это… жизнь страны… И каждый из нас отвечает за то, чтобы хлеба было много.
— Это значит? — спрашивает Катков.
— Это значит — нужна новая агротехника, применительно к условиям каждого сельскохозяйственного района.
— Значит, замахнулись?
— Да… А ты еще сомневаешься, — с сожалением говорит Шуров.
И Катков тепло кладет руку на плечо Шурову, говоря:
— Да разве ж я поэтому задал вопрос-то?.. Хотел знать: крепок ли ты сам, Петр Кузьмич!..
— Веришь? — спрашивает Шуров у Каткова.
— Я иду по вашему маршруту! — твердо говорит Федулов.
— Факт, — поддерживает Костя и после паузы продолжает: — Только вот такое дело: шел я сюда по улице, а в хате сидят Самоваров с Хватом и еще кто-то.
— Ну и что же? — спрашивает Шуров.
— Съест он вас, Петр Кузьмич, — качает головой Костя.
— Подавиться может, — спокойно говорит Шуров.
Ночь. Квартира Самоварова. Он держит блокнот в руке. Хват сидит перед ним. Рядом с Хватом Болтушок. Самоваров думает и будто про себя говорит:
— Та-ак… Свеклу надо — около села: полоть женщинам ближе.
— Обязательно, — подтверждает Хват. — И полоть ближе, и убирать ближе.
— Все сплановали: план до тех пор план, пока он план; как только он перестает быть планом, он уже не план, — рассуждает Самоваров.
— Бригадиры у нас плохие, — говорит Хват. — Никудышные. Все только Петьку Шурова и слушают. А он под вас подкапывается.
— Подожди. Дай срок — поснимаю обоих бригадиров. А ты и ты, — тычет он поочередно, — вы будете бригадирами. Даю установку: ты, — указывает на Хвата, — на охрану зерна и наблюдение за ходом, ты, — указывает на Болтушка, — агитировать будешь и сообщать мне о ходе, чтобы я мог руководить. Вы — мои два глаза. Понятно?
Болтушок на вопрос Самоварова забалабонил: