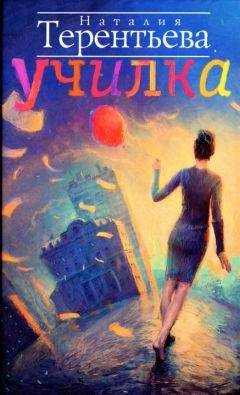Наталия Терентьева - Похожая на человека и удивительная
– …и город наш теперь, превращаясь на глазах в настоящую европейскую столицу, избавится от всех своих бед… – разливался соловьем, забывая о границах приличия и, главное, реальности, Генка.
– Избавится от сотен тысяч ненужных машин, – подхватила я, пока Генка переводил дух, – от невежества и грязи, от бессмысленных, сидящих друг у друга на голове продуктовых магазинов и аптек, избавится от своих назойливых гостей, приезжающих к нам без спросу и приглашения, от старых картонных пятиэтажек, от «новых» домов, которым уже тоже тридцать – сорок лет и в которых давно пора менять все прогнившие трубы…
– Сразу не избавится, это правда. Всего-то три года прошло, это не срок. А что ты предлагаешь? – спросил Генка довольно дружелюбно. – Сама, кстати, хочешь быть мэром?
Действительно, его я никак не задела, а за город и старые-новые политические команды он радеет просто так, по службе.
– Нет, мэром я быть не хочу. Но лично я предлагаю гостям уехать по домам, заняться своими собственными землями, пока эти земли кто-нибудь, у кого один квадратный метр земли на семь с половиной граждан, не отобрал за ненадобностью. Это касается не только узбеков, таджиков, молдаван. Это касается, в первую очередь, всего потока покорителей Москвы, которые едут из маленьких российских городков.
– Там у них негде работать! – вздохнул Генка.
– Мы говорим о том, как спасти Москву от экологической и культурной катастрофы. А потом – если так будет продолжаться, то маленькие города будут умирать, как на протяжении сорока – пятидесяти лет умирали деревни. Умирали и умерли.
– Ты смогла бы жить в маленьком городе, дорогая Лика? – спросил Генка.
– Я – да.
Режиссер сказал нам в наушники, чтобы мы сворачивали тему, пришло время музыки. А я бы могла говорить и говорить о том, как я буду жить в Калюкине, как я буду ходить по маленькой улице в маленький магазин за хлебом… Как я буду работать… Где? В местной школе? Нет, я не учительница. Я бесконечно уважаю хороших учителей. Но сама быть учительницей не могу. Я не могу объяснять другим то, что сама отлично знаю, что слишком просто и можно понять за минуту.
Так где бы я работала в Калюкине? Я ведь уже себя спрашивала об этом. Но не шла дальше смутной и приятной картинки, как я бреду по осенней улочке за хлебом, по шуршащим листьям, смотрю на золотистые березы, краснеющие клены и серебристые ивы, спускающиеся из некоторых дворов прямо на асфальт, так, что приходится их обходить, шагая на проезжую часть, по которой в час проезжают три машины, одна из них как раз везет свежий хлеб в тот самый магазинчик, один из двух в городке…
Я всё придумываю. И машин в Калюкине больше, и магазинчиков хватает. Я грежу о чем-то забытом – может, такой городок я видела в детстве, или есть такие городки где-то в глубине России, куда ни добраться, ни доехать – на перекладных разве что, с одного автобуса на другой, на своей машине по тем дорогам проедешь только в одну сторону, пока не убьешь ходовую. Там пьют и умирают. Рождаются уже в других городах, побольше, где есть нормальные больницы, нормальные дороги, где можно найти работу. Замкнутый круг? Вероятно.
Увы, я не реформатор и даже не член какой-либо партии. Я… Я просто устала от шума, грязи, чужих лиц, чужой речи вокруг – в моем собственном родном городе, я задыхаюсь от выхлопных газов, я чувствую бессмысленность своей работы и всей своей суетной жизни.
И еще. Я очень хочу утром перемолвиться с кем-то словом. Прижаться щекой и сказать: «Пора вставать – утро…» Я…
Так, все, решено. Я не буду больше разводить соплей на эту тему. Я просто поеду в Калюкин. А там посмотрим. Ничего решить, сидя в центре родного, но осточертевшего мне мегаполиса, я не могу.
Сумка моя до сих пор не разобрана, положить еще пару вещей. Взять отпуск на работе, тем более что предыдущий я не использовала, два выходных плюс… скажем, пять дней. Договориться на радио… Позвонить Верочке, удостовериться, что в ближайшие дни она не потеряет смысл жизни. И Герде. Жене звонить не буду – его вернувшиеся родители вряд ли сразу снова уедут надолго. А дружбы с мальчиком у нас не получилось. Он меня боится, и для дружбы это – непреодолимое препятствие.
Я ловко обхожу сама с собой один очень важный пункт. А не позвонить ли тому, к кому я еду? Ради кого и из-за кого все это устраивается? Нет, не позвонить. А вдруг он ответит мне что-то не то? Или же… или же просто не ответит. Нет, нет и нет. Я боюсь? Да, боюсь. Имею же я право бояться чего-то, я, бесстрашная и самоуверенная, абсолютно самодостаточная женщина на хорошей машине с хорошей работой и великолепной – для честного заработка – зарплатой?
Я волнуюсь, поэтому не понимаю, что из моих тревожных мыслей – просто волнение, что – предчувствие, а что – глубоко скрытая неуверенность себе. Ведь где-то в самой-самой глубине души я никогда не перестаю чувствовать свою неполноценность из-за того, что судьба не дала мне возможность, простую и естественную для всех, – возможность продлить свою собственную жизнь в ком-то другом. Ведь это именно так? Именно в этом великий смысл – в продлении жизни, в наполнении собственной жизни смыслом другой жизни, появившейся благодаря тебе. А разве это не важная цель? Разве ради этого не стоит жить? Ради того, чтобы кому-то было хорошо, тепло, надежно рядом с тобой?
Перед самым выходом из дома я быстро просмотрела вещи, которые взяла. Да, зна´ково. Три красивых платья, – два из них я ни разу не надела, купив в начале лета, еще несколько модных вещей, а также одежда на холодную погоду. Две новые книжки трепетно любимого мною востоковеда Маслова, и, понятно, фотоаппарат… Я надолго собралась или на три дня? Нет! Я не могу ответить себе на этот вопрос. А как же тогда? Отпустить всё и пусть идет, как идет?
Я подумала, что вот уже дня два как не слышу ничьих мыслей. Может быть, всё? Этот вопрос с надеждой я уже задавала себе не раз. И ведь никак не проверишь, по заказу ничего не слышно.
Последний раз на эфире я услышала Генкины мысли – он упорно прокручивал одну и ту же картинку в голове – маленькая тоненькая узбечка танцует перед ним совершенно обнаженная, а он… Вот за что я возненавидела свой дар – за чужой срам, который мне приходится не то чтобы лицезреть, а как будто пропускать через себя, как будто вокруг меня мир наполнился густо переплетенными электрическими проводами, с сильно поврежденной проводкой. То тут ударит, то там, то послабее, а то так сильно, что нечем становится дышать…
– Ген, сосредоточься, – с трудом выдохнула я во время музыкальной паузы, усилием воли пытаясь отогнать мерзопакостную картинку Генкиного стыда и наслаждения. – Ерунду говоришь, не замечаешь?
– Где? Да? – встрепенулся Генка. – А что я сказал? Оговорился, что ли?
– Проговорился. Успокойся, двадцать минут осталось, потом позвонишь своей Фариде и пообещаешь сводить ее сегодня в кино. И все будет хорошо, как надо.
Генка совершенно белыми глазами посмотрел на меня и выплюнул из себя:
– Г-гадина! Какая же ты гадина! Где ты все это собираешь, а? И никто, главное, не знает, какая ты гадина. Все думают, что ты такая пушистая и правильная… А ты просто… – Генка мучительно помотал головой.
Сильно ругаться он не мог, сегодняшний редактор, точнее, пожилая редактриса, слушающая нас из-за стекла, уже раз пять жаловалась на Генку Лёне, что тот своими матерными излишествами ранит ее христианскую душу. Такие люди тоже, оказывается, работают на балабольном радио.
– Не заводись, – миролюбиво кивнула я Лапику. – А то сегодня опять ничего не получится, на фоне стресса.
Мне показалось, что Генка хочет меня ударить, если не кулаком, то лежащим перед ним толстым словарем ударений, если не словарем, то микрофоном… Вырвать микрофон и дать по башке этой мерзкой, бледной, блекло улыбающейся твари, или прямо по лицу, чтобы не лезла в кишки, чтобы не собирала что ни попадя по коридорам…
Да, интересное чувство – чувствовать, что тебе очень хотят дать по морде, да побольнее. Я интуитивно отодвинулась от Генки, хотя он и так не смог бы до меня легко дотянуться.
– Ре-бя-та! Да что вы там в самом деле! Десять секунд до эфира! И повеселее! Тема такая сегодня, а вы что-то…
Вторая тема и вправду была веселая, особенно для нас с Генкой, – надо ли все свое свободное время проводить с детьми, или все же оставлять немного на себя? И являются ли дети частью собственного «я»? Может, кто-то где-то и поговорил бы на эту тему интересно и серьезно, но вот именно мы с Лапиком… Генка все острил и острил, а было не смешно, я поначалу пыталась ему подыгрывать, а потом перестала.
– Да, вероятно, это так и есть. Ребенок – часть тебя. Информационная, энергетическая, эмоциональная, даже физическая. Ведь если больно твоему ребенку, тебе тоже больно…
– …сказала Борга, у которой деток нет и не намечается. Или намечается, а, Ликуся? Что-то ты вдруг забыла о своем, с позволения сказать, мужском предназначении и всячески рекламируешь домострой.