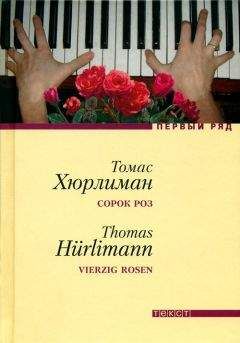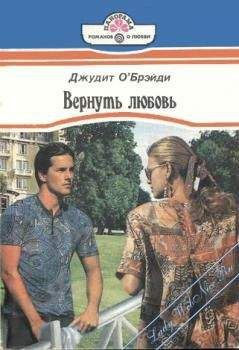Светлана Смолина - Медвежьи сны
– Я зафрахтовал легкий самолет, – зачем-то сказал он, уже стоя у двери и понимая, что слова ничего не изменят. – Сегодня отличная погода для полетов.
– Не для меня. Не сегодня.
– Ясно. – Он толкнул массивную дверь, переступил порог и вдруг обернулся и ухватил ее за руку. – К чему эти игры, Машка? Просто скажи, чтобы я больше не приходил, и я не приду.
Она не ответила, глядя на его побелевшие пальцы на своем запястье рядом с браслетом. Он тоже увидел браслет, который она приняла в подарок, не пообещав ничего взамен, и разозлился.
– Давай же, освободи меня!
– Я не держу тебя.
– Ты держишь, – упрекнул он и потянул ее к себе. – Ты держишь так, что я вздохнуть не могу. Вот этой самой ручкой прямо за горло. Будь со мной или отпусти.
Он приложил ее ладонь к гладко выбритой щеке, позволив ей решить, как поступить дальше, и разжал пальцы. Марусина рука на мгновение задержалась, продлив прикосновение, и тут же безразлично упала вниз.
– До вечера, Дима. Увидимся в ресторане.
Она ушла в комнату, не дождавшись его ухода, и Филька по привычке запрыгнул на кровать и облизал ей лицо.
– Хорошо, хоть ты у меня остался, – всхлипнула Маруся, когда дверь захлопнулась, и уткнулась лбом в палевую шею с широким ошейником. – Я боюсь летать на самолетах и боюсь, что он больше никогда не придет. Завтра поедем покупать мне домашний костюм, ладно? Мне нравится оранжевый, он позитивный. Ты тоже почти оранжевый и ужасно позитивный, когда улыбаешься. Давай немного поваляемся, потом примем ванну и навестим Машу и «барбоса». Только чур ты будешь послушным зайчиком, потому что у меня нет времени с тобой пререкаться, сегодня рабочий день никто не отменял.
А потом в город вернулись дожди. Они смывали остатки листьев с деревьев в парке, холодными струями пробирались за шиворот, стоило выйти из машины, и оставляли грязные отпечатки собачьих лап в только что вымытой прихожей. За дожди и плохую погоду доставалось покойному Пушкину, как будто в небесной канцелярии именно он отвечал за метеоусловия. По утрам она бродила в мягком оранжевом костюме со смешными заячьими ушами на капюшоне, ела горький шоколад и рассказывала Фильке про теплые страны, в которых успела побывать вместе с мужем. Пес слушал, глупо приоткрыв рот, но Маруся прощала ему и вываленный из пасти язык, и пятно на ковре из опрокинутой чашки, и светлые волоски на ее черной, серой, разноцветной одежде. За его улыбку, умение слушать и постоянное присутствие рядом она готова была простить ему что угодно. Теперь он ждал ее после выступления в холле ресторана, свернувшись клубком возле гардероба и провожая посетителей золотисто-карими глазами. Из зала доносились вкусные запахи и Марусин голос, и иногда, будучи в особенном расположении духа, Филька брался подпевать, не видя разницы между домом и рестораном. Пожилая гардеробщица тетя Шура принималась шикать на него и махать руками, а Филька обиженно замолкал и тихонько поскуливал, продолжая напевать про себя.
Маруся выходила уставшая, пахнущая чужой едой и сигаретным дымом и надевала очень модное, но какое-то несуразное лохматое пальтишко. В нем она походила на стриженую болонку, которую Филька видел за задним стеклом остановившейся на светофоре машины. Болонка Фильке понравилась, а хозяйка в этом пальтишке – нет. Но он все равно поднимался с пола и от души размахивал хвостом, давая понять, что в пальтишке или в бессмысленном оранжевом костюмчике она была его любимой хозяйкой и он ценил ее не за внешность или утреннюю порцию колбасы, а за то, что она однажды появилась в его собачьей жизни теплым весенним днем. Возле подъезда она отпускала его пробежаться под ближайшими деревьями и обозначить свое присутствие для тех собак, кого выводили из дома ранним утром, и, открывая дверь в ярко освещенный лифтовый холл, всегда спрашивала: «Думаешь, завтра что-то изменится?» Пес был убежден, что завтра всегда что-то меняется: запахи, звуки из окна, интонации в ее голосе под аккомпанемент рояля, погода, вкус крохотного кусочка сыра в ее ладони. Но, похоже, Маруся этого не понимала, каждый вечер мучаясь одним и тем же вопросом.
Зарезервированный столик хозяина пустовал уже полтора месяца, запасы кофе в шкафчике на кухне не истощались, и не было никакого смысла надевать по утрам костюм из мягкого велюра. Почтенные матроны в супермаркете, толкающие телесами полные продуктов тележки, посматривали на заезжую примадонну со снисходительным участием. «Ну какая из нее конкурентка нашей Люське!» – говорили их понимающие взгляды. И с каждым днем, приближающим город к зиме, Маруся была склонна согласиться с их авторитетным мнением. Где королева красоты, пусть даже областная, и где она, Мария Аверина, в замужестве Климова? Ей оказалось не под силу ни борщ приготовить, ни мужчину удержать. Забираясь в шуршащую пеной ванну, она смотрела на свою руку с простым обручальным кольцом и играющим алмазными гранями браслетом и думала, что пора уже снять и то и другое… И откладывала этот шаг сначала до своего дня рождения, потом до Хэллоуина, потом до дня милиции, придумывая странные вехи в однообразной жизни.
В день рождения она сказалась больной и на работу не вышла, отменила занятия с Витькой и, прихватив Фильку, прокатилась до дальней окраины областного центра, чтобы купить продуктов и вина вдалеке от посторонних глаз. Проезжая по главной улице города, она притормозила возле стыдливой вывески «Магазин интимных товаров» в торце дома и обернулась к Фильке: «Зайдем?» Он вздернул торчком ухо и собрал на широком лбу с десяток глубокомысленных складок. «Ну, нет, так нет! – почти весело согласилась Маруся и почесала вовремя подставленную палевую шею. – Советчик ты мой!» Напиваться в одиночестве было так странно, что она прикончила почти полную бутылку крымского портвейна, прежде чем поняла, что изрядно набралась. Филимон нервничал, ходил вокруг кровати, на которой стояла тарелочка с маслинами, остро пахнущим сервелатом и необычайно вонючим сыром и лежала плитка неизменного шоколада, но запрыгнуть не решался. Хозяйка без умолку несла какую-то чепуху про море, про нервные болезни, про двоих детей, которых они вместе навещали в симпатичном особнячке за кованой оградой, и про картинную галерею, которая наверняка уже закрылась, потому что кое-кто терпеть не может современное искусство. Филька ничего не мог разобрать из ее бессвязной речи, тянулся мордой к сервелату и фыркал, натыкаясь на ее бокал с вином.
В конце концов, она одним движением смахнула тарелку на пол, допила свой бокал и заявила, что ненавидит домашние костюмы, техностиль ауди и захолустные городки, где царствуют мелкие личности, возомнившие себя хозяевами мира.
– Мы с тобой уедем путешествовать! Только ты и я, да, собака? – Она поцеловала его в пахнущую салями морду и засмеялась. – Оказывается, для счастья мне не хватало только собаки. Где ты был раньше?
Филька вздохнул и забрался к ней на диван. Он отлично знал, где он был раньше, а вот где завтра будет она после такого бурного празднования, оставалось только догадываться. Хозяйка избавилась от оранжевого костюма и заменила его умопомрачительной ночной сорочкой, которая должна быть в арсенале всякой уважающей себя женщины специально для посещений сердечного друга. Но у Маруси сердечного друга не было, а была только сердечная тоска, которую не получалось спрятать под тончайшими кремовыми кружевами. Она покрутилась перед зеркалом, нетвердо стоя на ногах, осталась довольна собой в кружевах и, чувствуя головокружение от выпитого, забралась под одеяло. На часах было двадцать минут восьмого, и уже полтора часа снег заваливал дома, улицы, площади и дубовую рощу за ее окнами.
«Спокойной ночи, красавчик!» – сказала Маруся и шагнула в душный сон со вкусом розового массандровского портвейна. Филька посмотрел на спящую хозяйку и, спрыгнув с кровати, подошел к окну, за которым в лунном свете на парковые дорожки опускались пышные белые хлопья.
Наутро он с укоризной наблюдал, как бледная Маруся в своем кружевном великолепии перемещается между ванной и кухней в поисках средства от похмельного синдрома. Как ни странно, нужные таблетки нашлись в аптечке, и через два часа она стала похожа на человека, а не тень отца Гамлета, страдающую морской болезнью. Правда, встреча с Машей и Димкой оказалась ей не по силам, потому что дети, как щенки, радовались выпавшему снегу, прыгали вокруг нее вместе с Филькой и заставляли ее кидать снежки и лепить снежную бабу. К началу выступления она едва держалась на ногах, в последний момент догадавшись заменить рояль гитарой. И, устроившись на стуле, взялась перепеть весь известный ей бардовский репертуар, разбавляя его привычными романсами. Благодаря этому решению, ей удалось сохранить лицо и добраться до дома живой. Оставив позади свое образное празднование сорокатрехлетия, жизнь вернулась в привычную колею, и Маруся перестала каждый вечер задавать Фильке глупый вопрос.