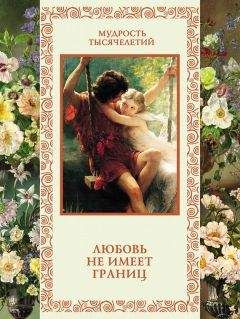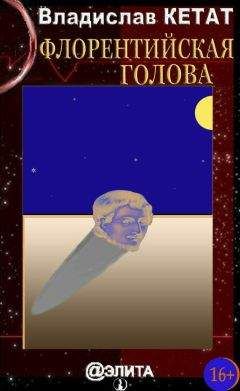Владислав Кетат - Дети иллюзий
Человек, идущий справа от меня по улице, на которой мы с Настей стали свидетелями безобразного торга, меня немного ниже, но разница в росте с лихвой компенсируется шириной плеч и, думается, массой. По моим прикидкам, веса в Тёмсике килограмм девяносто пять – сто, если не больше. Короче говоря, в рукопашной схватке, если таковая случится, шансов у меня будет, как у глиста супротив паровоза. Мало, короче.
– Ты, вообще, откуда взялся? – не поворачивая головы, спрашивает меня попутчик.
– Вам с какого места начать? – язвительно уточняю я.
Тёмсик сплёвывает в снег:
– Остряк…
– Скажем так: мы с Настей коллеги по работе, если вас это интересует.
– Коллеги по работе? – переспрашивает Тёмсик. – В одной фирме, что ли, работаете?
– В разных, – поясняю я, – но в дружеских. У руководства общие интересы.
Тёмсик кивает и снова закуривает:
– И давно вы знакомы?
Пытаюсь вспомнить, когда покупал у Насти пирожки, но ничего не выходит.
– Месяца два, примерно. Точнее сказать не могу.
Мой собеседник вновь многозначительно кивает головой, будто из моих слов ему что-то такое открылось, чего неизвестно даже мне самому.
– А вы-то сами, откуда взялись, позвольте спросить? – обнаглев, спрашиваю я.
Тёмсик всё-таки поворачивает в мою сторону взлохмаченную ветром голову. На его лице неподдельное удивление.
– Я-то? – усмехается он. – Я не взялся, я всегда был.
– Вы – бог?
– Не совсем, но близко. Я – друг семьи, бывший сослуживец Настиного отца. С сопливого возраста её знаю.
– А сколько вам, простите?
Тёмсик мрачнеет:
– Да уж побольше, чем тебе. В отцы я Насте вряд ли гожусь, но в дядья-то точно.
Выходим на Тверскую. Главная панель страны встречает нас неласковым ветром, который дует, что характерно, от Кремля, но иронизировать на эту тему не хочется.
– Скажите, а Тёмсик – это Тимур или Тимофей? – спрашиваю я.
– Артём, – нехотя отвечает мой попутчик, – но для тебя Артём Иванович.
– Учту, Артём Иванович, а теперь нельзя ли узнать о цели настоящей беседы?
Тёмсик, он же Артём Иванович, долго молчит. Его взгляд не выражает абсолютно ничего, и направлен сквозь меня, в район площади Маяковского. Со стороны он похож на атлета, готовящегося совершить некое спортивное действо, к которому давно и тщательно готовился. Поднять, например, штангу.
– Настоятельно рекомендую тебе как можно скорее прекратить с Настей всяческие контакты, – наконец произносит он.
Я понимаю, что слова эти дались ему с трудом, и потому не ощущаю в них угрозы:
– А если я этого не сделаю, тогда что?
Тёмсик потирает, видимо, подмёрзшие руки:
– Тогда я попрошу тебя ещё раз. По-хорошему. А потом, если над тобой не возобладает разум, по-плохому.
– Я не собираюсь прерывать отношения с Настей, тем более что они только что начались, – говорю я спокойно. – И ещё: я не боюсь ваших угроз.
Тёмсик хохочет нехорошим ухающим смехом, от которого у меня по спине пробегает примерно батальон конных мурашек:
– Тебя, мальчик, ещё никто не пугал…
Дух противоречия, самый стойкий и нерушимый из человеческих, неугомонный демон, заставляющий делать всё назло и вопреки, вечный двигатель любого молодёжного движения, поднимается во мне бутылочным джином.
– А может, стоит попробовать прямо сейчас? – почти кричу я. – А то я устал слушать подростковую чушь от сорокалетнего мужика!
Мой визави делает в мою сторону уверенный шаг, но вместо логически обоснованного в этом случае удара в голову, за ним следует панибратское похлопывание по моему левому плечу. При этом Тёмсиков лик слегка добреет, приобретая более или менее человеческие черты.
– Ты глянь, не испугался! – удивлённо, но, кажется, вполне искренне, говорит он. – Молодец, уважаю.
– Весьма польщён, но…
Тёмсик прерывает меня жестом:
– Бить я тебя, Валера, не буду, хотя и очень хочется. Лучше я расскажу тебе про Настю кое-что, а ты дальше сам решай, чего, да как.
Сбросить внутреннее напряжение, облегчённо выдохнуть, не получается. Ожидая услышать о Насте килограмм-другой каких-нибудь гадостей, я напрягаюсь ещё сильнее. Тёмсик же, будто не замечая этого, спокойно (раз, наверное, пятый или шестой) закуривает что-то вонючее.
– Понимаешь, какая петрушка, – начинает он, воздев очи к черным московским небесам, – она каждый раз притаскивает на свой день рождения типов, вроде тебя, и каждый раз мне приходится с ними потом беседовать. Это уже своего рода традиция. В прошлом году, помню, был некто Петя, географ из МГУ. Тоже высокий и худой, как ты. Видимо, ей близок этот тип. Если бы ты видел, как сверкали его пятки при полной луне!
Лицо моего собеседника озаряет нехорошая плотоядная улыбка.
– Может, на то есть причина? – спрашиваю я, стараясь не обращать на это внимание. – Может, дело в вас?
Тёмсик моментально становится серьёзным, если не сказать мрачным, чем меня несколько пугает.
– Причина в том, Валера, что у Насти ни с кем не получается долго поддерживать отношения. Молодые люди бегут от неё, как чёрт от ладана. Я же не зря спросил тебя, как долго вы с ней знакомы. Про два месяца ты загнул, да?
– Загнул, – признаюсь я.
– Вот видишь.
Мой собеседник по-отечески разводит руками, приобретая совсем уж медвежий вид.
– Можешь мне не верить, – продолжает он, – но я хочу тебе помочь. Совершенно, причём, искренне. Дело в том, что Настя – не совсем обычная девушка. И эта её необычность отталкивает. Про таких говорят: «девушка со странностями» или «у неё не все дома», или «не от мира сего». Понимаешь?
Пытаюсь переварить услышанное, перевести на понятный мне язык, но ничего не выходит:
– А можно поподробнее…
– К сожалению, нельзя. Просто поверь: общение с Настей не даст тебе ничего, кроме головной боли. Повторяю: ничего не даст.
Тёмсик делает ударение на «не даст», но я пропускаю это мимо ушей.
– И всё-таки, мне бы хотелось услышать какие-нибудь подробности, – настаиваю я, – а то как-то неконкретно…
Тёмсик смотрит на меня изумлённо:
– Неконкретно? Ладно, слушай: Настя очень рано потеряла мать. Мария Яковлевна – очень красивая женщина, кстати – по неизвестной причине покончила с собой, когда Насте было десять лет. Повесилась. Настю тогда к бабушке отвезли, от греха подальше. Сам понимаешь, как вся эта история отразилась на Настиной психике…
Тёмсик неожиданно замолкает и начинает старательно изучать снежную кашу под ногами. Жлобоватый видон, которым он пытался меня напугать, исчезает, словно и не было. Видимо, его сдул тот самый Кремлёвский ветер. По его теперешнему состоянию можно сказать, что он очень сожалеет о том, что сболтнул лишнего. Неудобное положение, в которое он сам себя поставил, растрепав незнакомому человеку чужую семейную тайну, заставляет его снова закурить, пошмыгать носом, сплюнуть в снег и несколько раз прочистить горло. Тем временем пауза затягивается.
– Я думал, её отец разведён, – говорю я, чтобы вывести его из ступора.
– Вдовец, – отвечает Тёмсик, глядя себе под ноги. – Он так сильно любил жену, что чуть было сам в петлю не слазил. Еле удержали. Приходилось руки за спиной вязать и водку в рот через силу лить…
«Вот так история, – думаю я, – лучше бы я ни о чём не спрашивал…»
– …я тогда ещё молодой был, но всё прекрасно помню, и Марию Яковлевну и Фёдора Алексеевича… и Настёну помню девчонкой совсем…
Мой собеседник, в конце концов, преодолевает смущение. Он больше не смотрит себе под ноги, хотя прежней бравады в нём нет. Осматриваю его внимательно и понимаю, что он, оказывается, нешуточно пьян. Я – тоже не образец трезвости, но Тёмсик впереди с большим отрывом – видимо в ожидании меня он успел догнаться пивом или ещё чем покрепче.
– Это, разумеется, многое объясняет, – дипломатично начинаю я с целью как можно скорее свернуть разговор и смыться в метро, – но при чём здесь я и, тем более, при чём здесь вы?
Мой поддатый собеседник снова затихает. Приготавливаюсь к очередной порции пьяных откровений, но совершенно неожиданно для себя замечаю в его глазах то, возникновение чего ещё пару минут назад я и теоретически представить себе не мог. Слёзы.
– Я люблю её, что тут непонятного, – гнусавит Тёмсик, разворачивается на месте и уходит.
Секундный порыв догнать его и продолжить разговор накрывает меня, когда широкая спина в «Аляске» исчезает за ближайшим углом. Я даже делаю несколько шагов вслед, но порыв иссякает столь же внезапно, сколь и появился.
– Бог мой, – говорю я сам себе, – во что я ввязался…
Площадь перед Ярославским вокзалом непривычно пуста. Торговки сигаретами, пирожками, чипсами и прочей отравой уже разбрелись по домам. На боевом посту лишь местная ветеранша Люда – мужеобразная торговка с длинным коричневым лицом, хрипловато зазывающая покупателей: