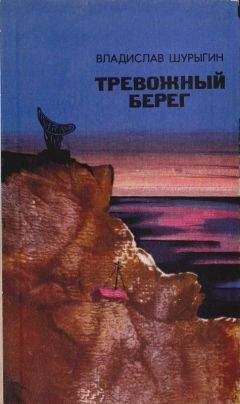Вячеслав Малежик - Снег идет 100 лет…
– Типун тебе на язык…
– А что? За милую душу… Слава, поехали в аэропорт, отправь меня домой… У тебя есть там концы?
– Разберемся…
– Знаете, в той жизни, ну, на войне, я все понимаю, а как живете вы…
– Ладно, Коль, поехали за вещами… – начал я.
– Да они у ребят, а паспорт и деньги со мной. Поехали в «Домодедово»… А???
– Хорошо, пошли ко мне в машину, – сказал Шачнев. – Я только дам отбой в бане. А потом рванем в аэропорт.
– Все-таки я привык быть хозяином своей судьбы, – миролюбиво сказал майор Брызгунов.
Child of time[4]
В отделе научно-исследовательского института стандартизации, куда я пришел работать по распределению после окончания Московского института железнодорожного транспорта, 60% сотрудников были женщины. Они вяло работали, звонили домой, интересуясь, чем там занимаются дети, курили, пили кофе и чай, сплетничали. В общем, делали тяжелую работу, которой были заняты все женщины в аналогичной ситуации.
Мужчины, число которых пополнил я, разговаривали о политике, тоже пили кофе и курили и пытались продвигаться по служебной лестнице. Для этого кто-то защищал диссертации, кто-то пытался сделать карьеру, используя профсоюзно-партийные рычаги. Все друг к другу относились доброжелательно и меня встретили с распростертыми объятиями. За два с половиной года, что я проработал младшим научным сотрудником, сдав кандидатские минимумы, написав две научные работы, я так и не понял – для чего я все это делал во ВНИИСе и сумел ли я поднять стандартизацию в стране на необозримые высоты.
Но у меня была музыка, и я ждал вторника и четверга, чтобы пойти на репетицию, а в уикенд выпадали выступления. В общем, меня не глодала совесть, что я что-то не то делаю в жизни. Каковы были взаимоотношения с собственной совестью у моих коллег-мужчин, я не узнавал. Я был младшим в коллективе и предполагал, что старшие товарищи точно знают, как надо жить.
Два персонажа выделялись в отделе № 101, где я служил. Первый был очень громкий, уверенный в себе, как бы нынче сказали, брутальный мужчина – Вадик Панкратов. Очки, которые он носил, вносили некоторый диссонанс в его облик и бывали, знаете, как в театре, приспособлением в его актерски повседневном поведении. Когда он что-то горячо доказывал, то снимал-надевал очки, добавляя своим аргументам определенной значимости. А еще Вадик был владельцем горбатого «Запорожца» и очень этим гордился. Иногда он вытаскивал из кармана ключи от автомобиля и этак рассеянно крутил их в руках. Я называл его на польский манер – пан Кратов. Он довольно ухмылялся и говорил:
– Слава, ну, если ты меня хочешь называть в польском стиле, то называй пан в квадрате Кратов, отдавая должное и моему возрасту.
Я хлопал его по плечу, и мы в очередной раз оставались довольны друг другом. Я хотел сравнить его с Ноздревым из «Мертвых душ», но решил, что бесшабашностью гоголевского героя Вадик как раз и не обладал.
Второй герой нашего отдела был Юлиан Александрович Бортников. Он был строен, если не сказать худ. Со спортом, судя по всему, он не дружил и поэтому был антиподом Панкратова. Про таких часто говорят «а еще шляпу надел», и он таки ее носил, как и зонт-трость, который на улице завершал его интеллигентский образ. На работе он был без шляпы, и приличные залысины опять же оттеняли кудри Панкратова.
Юлиан Александрович закончил Московский авиационно-технологический институт и учился в одной группе с нашими великими хоккеистами братьями Майоровыми. Я был в то время страстным болельщиком, и Бортников меня часто угощал историями, не предназначенными для широкого круга. Так вот: Панкратов и Бортников постоянно пикировались… Причем темами их споров могли быть весьма разнообразные проблемы – от доктрин А. Даллеса до разгона бульдозерами выставки художников-модернистов. Я, как правило, занимал позицию Ю. Бортникова, такую, знаете, гнилую пораженческую платформу. Думаю, что наши спорщики любили друг друга и их постоянные подколы были не чем иным, как гимнастикой для ума.
– Юлиан, – начинал задираться Вадим, – вчера читал вашего хваленого Пастернака. Не зря его фамилия переводится как «хрен»… Полная туфта.
– Как ты смеешь так говорить о великом советском, даже русском поэте! – моментально заводился Бортников. – Как можно говорить так о человеке, написавшем:
Свеча горела на столе,
Свеча горела…
И старший научный сотрудник Ю. А. Бортников декламировал наизусть стихи Бориса Пастернака. Панкратов, довольный, что Юлиан клюнул на его наживку, слушал с нескрываемым удовольствием. Когда Юлиан Александрович закончил, Вадим встал и, взъерошив волосы, дал ответку:
Ты жива еще, моя старушка.
Жив и я, привет тебе, привет.
– Вы, Вадим Сергеевич, занижаете планку, заигрывая с плебсом.
– А плебеи – тоже люди, вот что я вам скажу, – подливал масла в огонь Панкратов. – А еще я хотел спросить – откуда вы знаете стихотворение, не опубликованное в печати?
– Это не ваше дело.
– Вы сядете за публичное чтение запрещенной литературы.
– А вы сядете за то, что ее слушали и не донесли…
– Кто сказал, что не донесу? Сейчас напишу заявку на местную командировку и пойду доносить.
На самом интересном месте входил начальник, и спектакль прерывался.
И я нашел общий язык с Юлианом Бортниковым, и мы часто обсуждали с ним не только хоккейно-футбольные проблемы – всякие искусствоведческие темы тоже не проходили мимо нашего внимания.
И вот однажды коллега Юлиан Бортников, узнав, что я играю в группе на гитаре, похвастался, что он тоже музицирует на рояле.
– Играете на рояле что? – спросил я.
– Как тебе сказать? Наверное, свои впечатления. Знаешь, в конце девятнадцатого века во Франции появился в живописи стиль, названый импрессионизмом…
– Ну?..
– Вот и я играю свои впечатления. Если тебе больше нравится, называй это импровизацией.
– И как это у вас происходит? Вы представляете высоту звуков, слышите аккорд, который прозвучит? Есть ли в вашей музыке какая-то ритмическая структура?
Бортников был старше и на служебной лестнице стоял выше меня, занимая должность начальника отдела. Кроме того, он был начитанным парнем, и просто так на смех его поднимать мне не хотелось. Да я и не уверен, что получилось бы…
– Нет, – ответил Юлиан. – Я не знаю, что произойдет со мной и с моей музыкой в следующий миг…
– И что, у вас есть слушатели?
– Да, я часто играю для своих друзей. Ты не смейся, ты послушай, может, тебе это понравится, – убеждал меня Юлиан Александрович.
И вскоре случай представился. Юлиан, как руководитель проекта, и я, как молодой специалист, участвовали в какой-то выставке под патронажем Госстандарта. И подвернулось пианино.
– Ну что, «маэстро»? Готовы ли вы обратить в свою веру Фому Неверующего, – спросил я Юлиана Александровича.
– Что ж… Давайте тему, – усмехаясь, сказал руководитель проекта, открывая крышку пианино.
– Снежный зайчик, – брякнул я.
– Солнечный?
– Солнечный… Солнечного каждый сыграет… Снежного хочим!
– Снежного так снежного, – молвил импровизатор, он же музыкант-импрессионист.
Юлиан начал разминать кисти рук, несколько напоминая пародийного музыканта. А я сразу же мысленно стал собирать материал для разгромной передовицы в газете «Правда» о тлетворном влиянии худших образчиков западной псевдокультуры, о ревизионизме в музыке и прочем, и прочем…
Наконец Юлиан поднял руки и брякнул по клавишам со всей дури аккорд, сопровождая его нажатием ногой на педаль пианино, которая дает звучать взятым музыкантом нотам бесконечно долго. В аккорде звучали все интервалы, которые не рекомендует классическая гармония, если только не надо передать тревогу, заложенную в произведении. Секунды и кварты, интервалы в музыке, заключенные в аккорд Юлиана, прекратились, как только пианист отпустил педаль. Насладившись и одновременно вдохновившись первыми звуками, музыкант бросил свои руки в виртуозный пассаж…
Скорость звукоизвлечения была ограничена только подвижностью пальцев и рук нашего музыканта. Причем левая рука играла звукоряд снизу вверх (слева направо), а в это время правая увлеченно летела сверху вниз, как с горы. Наконец две руки встретились, взяв малую секунду[5] си-до. Юлиан снова нажал на педаль «сустейн» и замер. Далее он начал без особой системы брать в среднем регистре две ноты, скажем так, на первую долю, а на вторую – долго колотил по клавишам пианино всей рукой от кисти до локтя, нисколько не смущаясь, что нажимает не только на беленькие, но и на черненькие. Разогнав произведение до темпа presto[6], Юлиан вдруг заиграл трель соль-ля, и, когда я настроил себя на ля-мажор, до-мажор, ну в конце концов на ля-минор, Бортников обрушил лавину звуков в тональности третьей степени родства. Я был сражен… Финальная точка в произведении – закрытие крышки пианино.