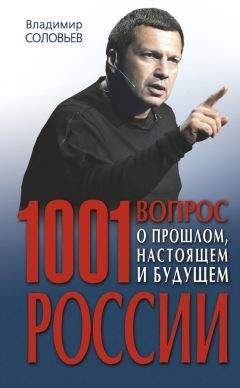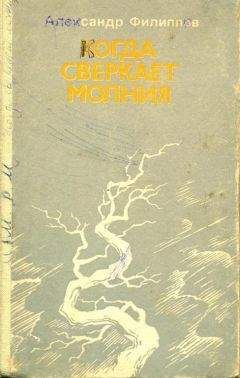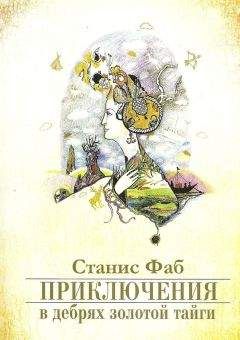Александр Филиппов - Аномальная зона
И взялся бы, но тут, как назло, бабахнуло, мигом перевернув весь его нехитрый, только-только устоявшийся быт.
Проснувшись среди ночи от ураганной стрельбы под звон разлетевшегося вдребезги оконного стекла, свист шальных пуль, смачно впивающихся в бревенчатые стены флигеля, Иван Михайлович с поразительной для сугубо штатского, отродясь не нюхавшего пороху человека, расторопностью и предусмотрительностью, мгновенно нырнул под топчан. Где и пребывал довольно долгое время, уткнувшись носом в свои пыльные, крепко пахнущие портянками и гуталином кирзовые сапоги.
Сперва он не понимал, что происходит. Теплилась надежда, что это официальные российские власти наконец добрались-таки до затаившегося в дебрях тайги нелегального островка сталинизма и теперь наводят здесь конституционный порядок с помощью ОМОНа или СОБРа. Но когда на соседний штаб с рёвом накатила толпа, по густому, отборному мату, по жаргонным лагерным словечкам понял, что это вырвались на свободу каторжане, которые кончают сейчас вохровцев – своих извечных врагов.
Кто-то пинком вышиб дверь флигелька, прошёл, хрустя битым стеклом, по типографии, заглянул в закуток Богомолова. Не прельстившись спартанской обстановкой, вышел, тяжело волоча ноги в деревянных опорках:
– Тут чека нету. Айда в штаб, подхарчиться поищем!
Поняв, что власть в посёлке радикально переменилась, Иван Михайлович, не дожидаясь, когда его извлекут на свет озверелые лагерники и шлёпнут по запарке, как пособника чекистов, шустро выбрался из-под топчана, на четвереньках добрался до шкафа, отыскал там полосатую робу, торопливо натянул на себя. А потом принялся соображать судорожно: примут ли его взбунтовавшиеся зеки за своего или кончат, признав сукой-активистом?
За окном вставал багровый рассвет – где-то в посёлке полыхали дома. Стрельба стала стихать. Из штаба доносились крики, хриплый мат – уголовники наводили свои порядки.
Богомолов натянул сапоги, нахлобучил полосатую кепку и осторожно вышел из домика. Вокруг штаба кучковались зеки. Многие были вооружены автоматами, винтовками. Некоторые нянчили в руках узлы с трофейным добром. Несколько блатных, с форсом шлёпнув донышком бутылки о голенище сапога и выбив пробку, пили водку, отхлёбывая поочерёдно из горлышка.
По улице под конвоем зеков шла избитая, истерзанная толпа вохровцев в изодранных гимнастёрках, вольняшек в синих спецовках, и писатель подумал, что если бы не догадался переодеться вовремя, то тоже плёлся бы в этой скорбной процессии.
– Эй, Гоголь! – неожиданно окликнул его один из конвоиров. – Подь сюды!
Иван Михайлович испуганно подошёл.
– А я слыхал, тебя вроде освободили? – конвоир из блатных с револьвером в руке, с торчащей из-за голенища сапога наборной рукояткой финки, прищурясь, оглядел Богомолова.
– Дык… Хотели вроде бы… – сбивчиво пояснил писатель.
– Ну ладно, мы сами себя освободили! – блеснул фиксами в ухмылке блатной. – Подмени-ка меня, братан. Энтих краснопёрых козлов Резаный велел в лагерь отогнать и в барках закрыть. Пущай вместо нас на нарах попарятся. А мне недосуг. Надо по хатам пройтись, чтоб ни одного краснопогонника на воле не осталось.
– Так я ж не при оружии… – попытался отбрехаться вяло Иван Михайлович. На что урка вытащил из-за голенища нож, протянул ему рукояткой вперёд.
– На. Попытается который бежать – режь беспощадно. Да куда они, суки, денутся? Теперь здесь везде наша власть!
Богомолов, взяв финку, побрёл с ней наперевес, пристроившись сборку колонны. Ему всё казалось, что сейчас кто-нибудь из уркаганов опознает в нём активиста – пособника лагерной администрации, втолкнёт в строй пленных, а то и вовсе прибьёт, но блатные не обращали на конвойных внимания, бродили по посёлку, собирая по хатам шмотьё, закуску и выпивку, а вохровцев сопровождали, судя по всему, обретшие негаданную свободу лагерные пахари-мужики.
Иван Михайлович старался не смотреть в сторону тех, кого охранял теперь, неожиданно для себя поменявшись с ними местами. Ни мстительной радости, ни злости к этим людям, ещё недавно, когда катал, надрываясь, тачку в карьере, казавшихся ему богами, вольными распорядиться его жизнью и смертью, писатель уже не испытывал. Многие из них были сильно избиты, перепачканы кровью. Некоторым помогали идти товарищи. А какой-то лагерный чёрт с длинной суковатой дубиной и с обезумевшим взглядом скакал вокруг колонны, норовя стукнуть пленных и вопя:
– А вы меня как? А таперича я вас так! Ох, попью вашей чекистской кровушки, ох, попью!
Миновав посёлок, по вырубленной в тайге дороге подошли к лагерным воротам. Там колонну встретили расхристанные вояки из самоохраны с берданками наизготовку.
– Я ж говорил, пацаны, без работы и пайки мы не останемся! – радостно поприветствовал новых каторжан один из них. – Раз есть тюрьма, найдётся и кому в ней сидеть!
Ворота жилзоны распахнулись со скрежетом. С шутками и прибаутками вохровцев загнали туда.
Богомолов собрался было навостриться в посёлок, но один из самоохранников грубо прихватил его за плечо:
– К-куда, твою мать?!
– Дак в посёлок, – пояснил, пытаясь освободиться, Иван Михайлович.
– Стоять! – рявкнул стрелок, наводя на него тронутый ржавчиной ствол берданки. – Ты у нас кто по этой жизни? Мужик! А всех мужиков велено опять за колючку загнать. Нагулялись – и хватит!
– А… как же свобода? – обескуражено лопотал, опасливо косясь на берданку, писатель.
– Свобода – это, фраерок, не для тебя, – ощерился самоохранник. – Свобода для тех, кто мастью козырной вышел. А твоё мужичье дело – брать больше да кидать дальше. Усёк?
– Усёк, – понурился Богомолов и бросил финку на землю.
Вместе с ещё несколькими бедолагами в полосатых робах, тоже оказавшихся мужиками по масти, писателя прикладами затолкали в жилзону. Ворота, заскрипев ржаво, закрылись у них за спинами, вновь отсекая от вольного мира.
6
Так случилось, что Студейкин не участвовал в лагерной революции. Будучи формально амнистированным, он продолжал обитать в режимном бараке локальной зоны, где располагалась спецлаборатория. Дело в том, что в результате многолетней селекции контингент подневольных работников секретного блока оказался в целом более приемлемым для Александра Яковлевича, чем прочие зеки, да и жители посёлка, а кормёжка здесь традиционно была лучше той, что давали в общей столовой, бытовые условия – комфортнее.
Когда вспыхнул ночной мятеж, вышколенная вохра осталась верной присяге. Чекисты наглухо закрыли все входы в спецблок, заняли круговую оборону на вышках, втащив туда два пулемёта Дегтярёва, и простреливали пространство запретной зоны, не разрешая приблизиться к ней никому, кроме начальника лагеря. А поскольку капитан Марципанов так и не появился, секретная лаборатория осталась на какое-то время единственной территорией лагеря, где сохранялся прежний, десятилетиями устоявшийся, порядок.
Ураганная стрельба, пожары в посёлке разбередили души заключённых спецблока, но суровые вохровцы мгновенно пресекали все вольнодумные разговоры, усиленно патрулируя локальный сектор, жилой барак, производственные и складские помещения.
Старуха Извергиль, со временем несколько смягчившая своё отношение к Александру Яковлевичу, нисколько не тяготилась неопределённостью своего положения.
– Я, голубчик, нашими чекистами даже горжусь! – откровенничала она со Студейкиным. – Профессионалы высочайшего класса. Надёжные, невозмутимые. Пусть хоть всемирный потоп – они свой пост не бросят. Вот у кого и вы, молодые учёные, должны учиться мужеству, стойкости, верности своим идеалам.
– Ну, вы уж совсем… Нашли кого в пример ставить – тюремщиков! – недоумевал Александр Яковлевич.
– Я говорю о профессионализме вообще, не применительно к конкретной деятельности! – горячилась Извергиль. – А изоляция, тюремный режим, если хотите, науке только на пользу! Отрешившись от внешнего мира, от всего, что отвлекает от главного, учёный в таких условиях все силы отдаёт науке. Будь моя воля, я возродила бы повсеместно «шарашки», где собирала бы самые выдающиеся умы современности!
– А я считаю, что в неволе человек не способен на творчество, – стоял на своём Студейкин.
Изольда Валерьевна, картинно хватаясь за сердце, пыхтела папиросой, в волнении стряхивая пепел мимо чашки Петри.
– Посмотрите вокруг! Именно здесь, в дебрях тайги, оторванные от благ цивилизации, от передовых достижений науки, наконец на примитивном оборудовании, подневольные, как вы выразились, учёные совершили открытие мирового значения! Почему? Да потому, что им не мешали! А дух – он свободен, несмотря на оковы, заборы, тюремные решётки… Я всегда знала, что вы не учёный, – обличающе тыкала она в сторону Александра Яковлевича дымящимся окурком. – Скорее, популяризатор, эдакий графоман от науки. Вам не дано получать наслаждение от самого творческого процесса! Подумайте: то, что мы делаем здесь, в тайге, не умеет никто в мире! Ни один из научно-исследовательских институтов Европы, США, Японии, Китая не продвинулся в разработке межвидового скрещивания так далеко, как мы. Они отстали от нас на десятки лет! Вот вам итог свободы личности, демократии… Осознание этого факта наполняет меня чувством гордости за нашу науку!