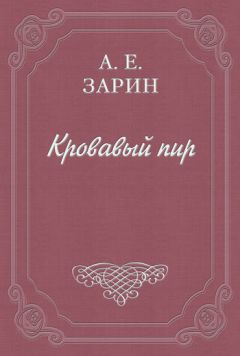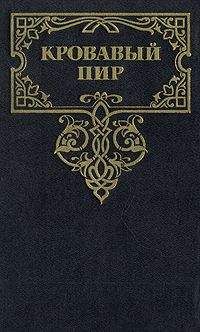Андрей Зарин - Кровавый пир
Милославский горько смеялся.
— Вот, Онуфриевич, — говорил он своему дьяку, — а мы с тобой только что такие же грамотки послали. Только себя тешим!
— Никто, как Бог, Иван Богданович, — вздыхал дьяк, — всем от вора великое теснение! Помирать, видно, готовиться надоть!
— Постой, дьяче, — сурово перебивал его Милославский, — нам с тобою такие речи говорить негоже. В людях и то малодушество, еще мы станем слезы лить!..
Прошло еще немного времени, и раз, когда Милославский сидел в приказе, ему пришли сказать:
— Сидит у тебя в избе какой-то человек. Бает, из Саратова. А Саратов ворами взят!
Милославский быстро прошел к себе. Перед ним встал высокий, статный мужчина лет сорока. Кафтан на нем был испачкан, ноги босые и голова простоволосая.
— Кто еси? — спросил его воевода.
— Корнеев, милостивец, дворянин саратовский! — ответил мужчина. — Почитай, один живот сохранил.
— Саратов взяли?
— Взяли, воевода! В одночасие взяли. Легли спать в спокойствии, проснулись в утрие — и кругом воровские люди. Пожар, кровь, крики и всякое поругание. Посадские людишки воров пустили, город запалили, и стрельцы отложились.
Воевода задумался.
— Так, так, — произнес он вполголоса, — первые воры! Вот кого беречься надобно. Сам Стенька Разин был? — спросил он.
— Идет и сам. А впереди нашего же дворянина Ваську Чуксанова заслал. Он и город взял!
— Свой дворянин! — удивился воевода. — Да что у него, креста на шее нет? Как могло такое статься?
— Про то не знаю! Бают, осерчал очень на воеводу, так в отместку.
— Ну, ин, — поднялся воевода, — теперь мне недосуг. Ужо поговорим; а пока что прикажу тебя здесь помогать, на службу запишу. Нам людей надо. Укажу места тебе!
— Рад за государя живот положить! — ответил Корнеев, кланяясь.
Еще пуще задумался воевода, а там, еще спустя неделю, прискакал его посланец, боярский сын Усамбеков, с вестью из Самары, что и Самара взята и идет Разин вскорости на Симбирск.
— Большой бой был? — спросил Милославский.
— А и боя не было, — ответил Усамбеков, — посадские ворам ворота открыли и башни подожгли. Нельзя и биться было.
— Опять посадские! — воскликнул воевода. — Ну, ну! Я же дури не сделаю, не дам им воли!
В тот же вечер, словно мух из горницы, он выгнал посадских из города всех в посад.
— Пусти, воевода, государю. послужить! — просили некоторые.
— Вору служить хотите, а не государю! Хотите государю прямить, и в посаде биться будете. Тамо и стены, и надолбы, и острожек есть! Крепко сидеть можете!
— Ну, ин! — говорили посадские. — Мы тебе, воевода, покажем! Придет наш батюшка, потрясем тебя за бороду!
Милославский удвоил свою внимательность.
В ров, что окружал городскую стену, он напустил воды и закрепил честик. Из посада перевез все запасы муки, зерна и мяса; укрепил стены и башни и указал каждому свое место.
Каждый день он говорил стрельцам:
— Государю прямите, прошу слезно! А еще прошу, коли будет промеж вас кто двоязычен, берите его и ко мне вора! Я ему потачки не дам и вас награжу. Прогоним вора — и государь всех пожалует!
— Не бойся, воевода, — отвечали стрельцы, — до последней крови поборемся.
— Верую в вас!
Однако он все-таки сумел в каждый стрелецкий отряд в полсотни поставить одного или двух боярских детей.
Усамбекова, чуть он отдохнул, послал воевода с письмом в Казань.
— Говори воеводе, что в Самаре видел, — наставлял он боярского сына, — да скажи еще: вору на Казань одна дорога — через нас. Мы не пустим, и князю не боязно, и вся честь ему. А у нас, скажи, в людишках недостача и кругом воры. Не устоим, государь с него спросит!
Наступило томительное время. Каждый день все ждали, вот придет весть, что вор близко. Каждую ночь, ложась, думали: вот поднимется сполох и вот нагрянет. Милославский уже затворился в городе и прервал сношения с посадскими. Только изредка днем проходил отряд стрельцов по улицам посада, забирал иных за дерзкие речи и уводил в пыточную башню.
— Ништо, — бормотали посадские, — знаем мы твою льготу. Вот ужо придет Степан Тимофеевич!
— Постоим, государи, — каждый вечер говорил Милославский наезжим помещикам и своим близким, — не шуточное дело деется. Надо храмы Божий защитить от поругания, жен и дочерей от насильства, себя от лютой смерти!
И все отвечали:
— Не пожалеем жизни своей!
Что ни день пробирались в город чудом спасенные от смерти саратовские и самарские дворяне, и от их рассказов холодела кровь и волосы шевелились на голове.
В особенный ужас привел всех Корнеев рассказом о смерти Лукоперовых.
— Сам-то я, — говорил он, — о ту пору в навоз закопался, а на голову лопату положил. Им и невдомек. А потом, грешен, перед этим Васькой Чуксановым крест целовал, а там и убег.
— Ты бы к попу сходил, — советовал ему воевода.
— Ишь, а и не знаю. Я уж тут у Успенья был. Поп на меня за грех епитимью наложил. А в субботу отпустить собирался.
— Что же, грех подневольный! — соглашались слушатели. — Ничего не поделаешь!
И рассказы об ужасах Самары и Саратова еще более укрепляли сердца защитников.
Всякий, страха ради, становился храбрым и мужественным.
— Батюшка, Иван Богданович, идут! — вбежав в воеводскую горницу, сказал стрелец.
— Кто, где?
— Воры! По Волге, по суше. Много!
Милославский вышел из дому.
— Откуда видел?
— С башни, государь, со старухи!
И Милославский пошел на угловую башню. Она называлась «старухою» потому, что была самая старая. В нижнем ее ярусе стояла пушка, тюфяк чуть не со времен, Феодора Иоанновича. Потом над нею надстроили еще четыре яруса. Она была самая высокая, красивая, но все-таки называлась "старухою".
Воевода поднялся на самый верх башни и взглянул вниз по Волге.
Словно белой пеною она вся была покрыта белеющими парусами стругов. Он взглянул окрест. Различить еще трудно было наступающее полчище, но видна была туча пыли, закрывшая даже ясную даль.
По свежему осеннему воздуху доносился смутный гул.
Милославский широко перекрестился.
— Спаси, Боже, люди твоя и благослови достояние твое! — произнес он набожно и стал спускаться вниз.
— Ты, Ермил, стой тута, а я тебе еще на помощь пришлю. Смотри и про все мне доноси!
— Отворите храмы, совершим моление! — распорядился он, приготовляясь к обороне.
Лицо его было мужественно и покойно, осанка горда, и, смотря на него, всякий чувствовал себя успокоенным.
— Таруханов, — позвал он боярского сына, — пока еще можно, скачи на Казань, проси помощи. Скажи воеводе, дескать, и писать недосужно! Вор под городом!
Таруханов помчался.
II
Словно лавина подвигался со своею ватагою Стенька Разин. Его девять тысяч увеличились уже до тридцати, со всех сторон к нему приставали холопы разоренных усадеб, посадские и стрельцы взятых городов, мордва, черемисы, чуваши, и он уже гнал их прямо нестройными таборами, словно тучу саранчи.
Самару, как и Саратов, он взял без боя. В три дня ввел свое казацкое управление, подуванил добро, казнил всех приказных, дворян, боярских детей, подьячих и купцов, утопил воеводу, сжег приказные дела и уже двигался дальше.
— Вот мы как, Васенька, — хвастался он пьяный на своем струге, — ровно чайки летим по ветру! Эхма! Астрахань с вечера, Саратов на белой заре, на Самару лишь рукой махнем, Симбирск-город легким посвистом возьмем, а там и Казань нам поклонится!
— Дрожат воеводишки! — отзывался Фрол.
Чуксанов пил и молчал. Дума о Наташе не давала ему покоя. Теперь он чувствовал, что она выздоровеет, но рядом с этим страшные мысли пробирались в его голову, когда он слово за словом восстанавливал ее бред. Вспоминая старое время, она называла его ласковыми именами, а потом гнала и "ляла его. "Неужели батюшка с братцем натолкали ей в голову против меня", — думал Василий и жалел, что еще мало мучил их.
— Брось, Вася, кручиниться! — говорил ему Разин. — Гляди, до Казани дойдем, какую свадьбу сыграем! Ой! Гуляй, казак!..
— Симбирск! — на заре пятого сентября закричал Ивашка Волдырь, вбегая в рубку атамана.
— Ой ли? Вот так скоро! — радостно воскликнул Степан, вскакивая. — Идем, казаче, взглянем!
Он вышел на палубу, и перед ним на низине открылся Симбирск, освещенный холодным солнцем. Ясно, спокойно, вырисовывался он на фоне бледного неба и, казалось, не чуял беды, которая шла к нему спешным шагом.
— Вот он, миленький! — сказал Степан. — И не надо тебя, да на дороге стоишь! Вася! — обратился он к Чуксанову. — Ты все сумный такой. Сойди-ка на бережок, достань языка, милый друг!
Василий послушно отошел и сел в челнок. По берегу шел его есаул Кривой со своей сотней, в которой Кострыга, Тупорыл и Горемычный стояли десятниками, а Пасынков и Дубовый пятидесятниками.