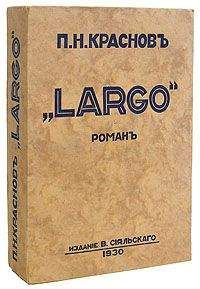Петр Краснов - Ненависть
Володя съ презрительнымъ сожалѣнiемъ посмотрѣлъ на отца. «Что съ него спрашивать?.. Рыцарь двадцатаго числа. Чиновникъ!..»
— Что съ тобою говорить, — сказалъ онъ. — Опять по требованiю Николая пойдуть русскiе рабочiе и крестьяне умирать за то, чего сами не знаютъ. Несокрушимый милитаризмъ!.. Генеральское фанфаронство! Но, посмотримъ еще, какъ отнесется къ этому народъ… Тѣ времена прошли, когда народъ молчалъ — бо благоденствовалъ. Теперь онъ не благоденствуетъ и не молчитъ.
Володя посмотрѣлъ на часы.
— Однако… вотъ что, мама… Я долженъ сейчасъ ѣхать въ городъ. Это извѣстiе все таки можетъ быть чревато послѣдствiями… Мнѣ надо поговорить съ моими друзьями… Возможно, что ни сегодня, ни завтра я не вернусь… Ну… да это обычно. Безпокоиться не о чемъ.
Володя, ни съ кѣмъ не простившись, вышелъ изь столовой и одѣлся. Шура увидала въ окно, какъ онъ быстро зашагалъ по пыльной дорогѣ къ желѣзно-дорожной станцiи.
* * *Какъ пришибленная непогодой птичка сидѣла въ своемъ углу Женя. Давно-ли она мечтала о мирѣ? И вдругь — страшное слово — война!.. Война это значитъ, что дядя Тихонъ Ивановичъ, который съ полкомъ стоитъ на австрiйской границѣ, дядя Дима — и уже, конечно, Геннадiй Петровичъ пойдутъ на войну.
То, что говорилъ Володя ей было непонятно. Кто такiе славянофилы — она не знала… Гдѣ эта самая Боснiя и несчастное Сараево?.. Все это оказывалось страшнѣе и сложнѣе самыхъ страшныхъ экзаменовъ. Корочка чернаго хлѣба, пожалуй, тутъ и не поможетъ. Кому, какъ и о чемъ молиться?.. Чтобы Австрiя не напала на Сербiю? Но тамъ какой-то Принципъ убилъ все таки эрцъ герцога и его жену?… Кому это было нужно?.. И почему, почему это должно коснуться Россiи?… Почему за это убiйство должны расплачиваться дядя Дима, дядя Тиша?… Геннадiй Петровичъ?.. И она должна отдать свое робкое, только что зародившееся счастье?… Широко раскрытыми глазами, въ которыхъ затаилась большая печаль и забота, Женя смотрѣла на окно. Она видѣда сѣдѣющую голову отца въ озаренiи румянаго заката, видѣла, какъ таялъ голубоватый дымокъ въ ясномъ воздухѣ и чувствовала, какъ запахъ табака мѣшался съ ароматомъ цвѣтущаго жасмина.
— А я скажу, — ни къ кому не обращаясь, сердито проговорилъ Матвѣй Трофимовичъ, — я скажу, что теперь, вотъ, не императоры… не государи… не генералы… рѣшаютъ судьбы войны и мира… наши судьбы… а такiе вотъ, прости Господи!.. Володи!..
Шура блестящими, большущими темными глазами внимательно посмотрѣла на дядю, но ничего не сказала.
— Бѣда быть отцомъ взрослаго сына, который умнѣе тебя, — продолжалъ Матвѣй Трофимовичъ. — Новые люди!.. Эти новые люди и Эвклидову геометрiю отмѣнятъ!.. Параллельныя линiи у нихъ сойдутся… Тьфу!.. Побѣжалъ у какихъ-то друзей искать совѣта… Своего ума не хватило. А отецъ?.. Ни къ чему отецъ… Наливай что-ли Леля чай…
Матвѣй Трофимовичъ молча, угрюмо мѣшалъ ложечкой чай въ стаканѣ. Заботная мысль была у него на лицѣ.
II
Душевный миръ Жени былъ нарушенъ.
Приближался Ольгинъ день — 11-го iюля — обѣ семьи Жильцовыхъ и Антонскихъ готовились къ празднику именинъ Ольги Петровны. Изъ цвѣточной прозрачной бумаги клеили китайскiе фонари для иллюминацiи сада и дома. Гурочка готовилъ фейерверки. Женя и Шура тайно приготовляли подарки для именинницы. Все это было радостное, нѣжное, сладко волнующее и въ это вошло тяжкое, страшное слово война. Вся радость была сорвана, свѣтлый мiръ потускнѣлъ.
Изъ Гатчины прiѣхали Антонскiй съ Шурой. Борисъ Николаевичъ былъ озабоченъ и угрюмъ. Володя только что прiѣхалъ изъ Петербурга. Онъ былъ, напротивъ, веселъ.
Женя съ тоскою смотрѣла на него. Она думала: — «какъ все перемѣнилось за эти дни! Куда дѣвалось теплое iюльское солнце?.. Запахъ скошенной травы не радовалъ, но несъ какую-то неопредѣленную тоску. Жасминъ не благоухалъ…» Лилъ проливной дождь. Въ длинныхъ желтыхъ лужахъ вдоль дорожки сада блѣдные вспыхивали пузыри, предвѣщая ненастье. Сѣрое небо точно валилось на землю. Мокрыя и нахохлившiяся березы были невыразимо печальны. Дрозды и воробьи куда-то попрятались. Намокшiе жасмины роняли желтоватые лепестки цвѣтовъ. Цвѣточная клумба казалась грязной.
Володя на сто восемьдесятъ градусовъ перемѣнилъ свои убѣжденiя. Давно-ли чертыхался онъ и проклиналъ войну и государей — теперь онъ находилъ, что война неизбѣжна и необходима. Папа — милый «косинусъ», — думала Женя, «ну что онъ въ этомъ дѣлѣ понимаетъ…» — говорилъ о тяжелыхъ пушкахъ и аэропланахъ, о большой военной программѣ и о планахъ войны… Смѣшно было слушать его. Суетился и непривычно взволнованно кричалъ дядя Боря. Его носъ сталъ багрово-сизымъ, что означало у него крайнюю степень волненiя.
Женя слушала, печально глядя въ унылый садъ и ничего не могла понять. Сознавала она, что улетѣло ея милое счастье, что она, какъ раздавленная на дорогѣ бабочка. Не поднять ей больше крыльевъ радостной ея мечты. Никакая молитва, никакая «корочка» ей не поможетъ.
— Ну что ты говоришь, — раздраженно говорилъ Матвѣй Трофимовичъ, пыхая трубкой. — Борисъ Николаевичъ, мы не можемъ… Мы не должны воевать. Большая военная программа и на половину не выполнена. Армiя не снабжена полевыми тяжелыми пушками. Мало пулеметовъ. Аэропланы только только появляются у насъ. И противостать величайшей военной державѣ, сорокъ четыре года въ полномъ мирѣ готовившейся къ войнѣ. Это невозможно… Это самоубiйство… Государь долженъ это понимать.
— Именно потому, что мы не готовы — Германiя и объявитъ намъ войну, — сказалъ Антонскiй. — Старыя рыцарскiя времена безслѣдно миновали. Теперь никто не скажетъ «иду на васъ», но именно захватитъ врасплохъ, когда намъ неудобно, а имъ удобно — вотъ когда объявляютъ войну и императоръ Вильгельмъ этого, конечно, не упустить.
— Не объявилъ же онъ намъ войну въ 1904-мъ году, когда Японiя напала на насъ?
— Германiя была тогда еше не готова. Кромѣ того Императоръ Вильгельмъ самъ боится желтой опасности и не хотѣлъ побѣды Японiи надъ Россiей.
— Мы можемъ уклониться отъ войны, сославшись на Гаагскiй трибуналъ.
— Уклониться?.. Какъ ты можешь это говорить? А нашъ вѣчный, исконный долгъ защиты славянъ? А наши интересы на востокѣ?.. Такъ нагло нарушила ихъ Германiя своею Багдадскою дорогой. Наша торговля на востокѣ сведется къ нолю. Мы потеряемъ свой престижъ въ Персiи. Все это, милый Матвѣй Трофимовичъ, не пустяки.
— А Богъ съ ней, со внѣшней то торговлей. Мало что-ли у насъ внутреннихъ рынковъ. Дай Богъ ихъ удовлетворить.
— Наконецъ, Царское слово. Союзъ съ Францией насъ обязываетъ быть солидарными съ нею.
— Ну… А если?.. Не дай Богъ… Пораженiе?..
— Во!.. во! — закричалъ Володя, потирая руки. — Самое то, что нужно для блага народа. Побѣдоносная война — это было-бы такое величайшее несчастье.
— Ты самъ не понимаешь, что говоришь, — сердито сказалъ Матвѣй Трофимовичъ и застучалъ трубкой о столъ, выколачивая пепелъ.
— Ну, ужъ, хватилъ, — воскликнулъ и Борисъ Николаевичъ, тоже, видимо возмущенный. — Это ты, братъ того!.. Герценомъ пахнетъ. Совсѣмъ, какъ наши полоумные студенты, которые во время Японской войны посылали телеграммы Микадо съ пожеланiемъ побѣды.
— И правильно дѣлади.
— Какой-то минимальный патрiотизмъ все таки нуженъ.
— Никакого!.. Слушайте: — если-бы въ 1904 году Россiя разгромила Японiю, заняла бы Японскiе острова, уничтожила Японскiй флотъ — какое это было-бы торжество самодержавiя!.. Мы откатились бы назадъ на двѣсти лѣтъ. Возможна-ли была тогда хотя-бы нынѣшняя куцая конституцiя?.. Удалось-бы тогда добиться броженiя въ войскахъ, забастовокъ на заводахъ и созыва Государственной Думы?.. Нѣтъ… Такое «громъ побѣды» раздавалось-бы, такъ «веселился-бы храбрый Россъ», что всѣ «свободы» были-бы подавлены суровою рукою побѣдителя и его побѣдоноснаго войска.
— Ну, положимъ!..
— Такъ и теперь, въ надвигающейся и въ неизбѣжной уже войнѣ мы должны желать пораженiя Россiи и Германiи — двухъ самыхъ большихъ имперiалистическихъ странъ.
— Ахинея!
— Чепуха!
— Съ ихъ пораженiемъ и тутъ и тамъ вспыхнутъ революцiи и сгинетъ проклятый царизмъ. Наконецъ, и у насъ будетъ республика!
— Замолчи, Володя. Этому учили тебя твои друзья? Страшно и тошно слушать тебя. Я вѣрю въ здравый смыслъ народа, въ народнуго душу, въ патрiотизмъ народныхъ массъ. Нѣмецъ ненавидимъ въ народѣ. Противъ нѣмца пойдутъ не такъ, какъ шли противъ японца, который былъ слишкомъ далекъ и непонятенъ народу.
— Нѣтъ, отецъ. Патрiотизмъ, о которомъ ты говоришь не будетъ… не будетъ и не будетъ!.. До этого не допустимъ!..