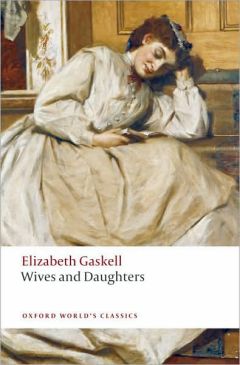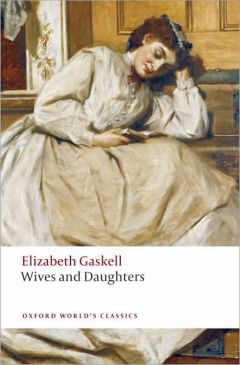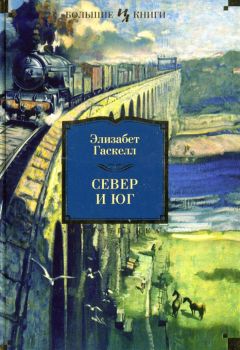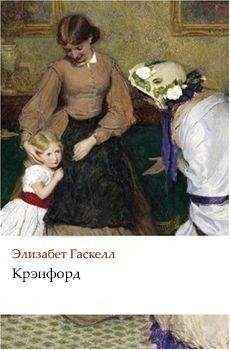Элизабет Гаскелл - Жены и дочери
Глава 23. Осборн Хэмли обдумывает свое положение
Осборн в одиночестве пил кофе в гостиной. Судя по его поведению, он чувствовал себя крайне несчастным. Стоя на коврике у камина, молодой человек раздумывал над своим положением. Он и не подозревал, насколько его отец нуждается в наличных деньгах. Сквайр ни разу не заговорил с ним на эту тему без того, чтобы не прийти в ярость, но все его бессвязные и противоречивые заявления он, Осборн, относил к разряду преувеличений, высказанных в пылу страсти, хотя то, что говорил отец, как выяснилось, являло собой чистую правду. Для молодого человека в возрасте Осборна казалось неприемлемым и недостойным не иметь на насущные расходы даже пятифунтовой банкноты. Основные припасы для изобильного – и даже роскошного – стола в Холле поставляло само поместье, посему в том, что касалось домашнего хозяйства, не наблюдалось никаких признаков бедности. И пока Осборн оставался дома, он получал все, чего только мог желать; но у него была жена, которая жила в другом месте и которую он постоянно хотел видеть, а это означало необходимость поездок. Ее, бедняжку, следовало содержать. Но откуда взять денег на постоянные разъезды и скромные нужды Эйми? Именно этот вопрос и не давал сейчас покоя Осборну. Пока он учился в колледже, его денежное содержание как наследника Хэмли составляло триста фунтов, а вот Роджеру приходилось довольствоваться сотней меньше. Выплата этих ежегодных сумм давалась сквайру нелегко, но он полагал их временными неудобствами, что было с его стороны, пожалуй, несколько опрометчиво и самонадеянно. Но он был уверен, что Осборну предстояло вершить великие дела, добиться знаков отличия, стать членом научного общества, жениться на богатой наследнице с длинной родословной, поселиться в нескольких из множества необитаемых комнат в Холле и помогать сквайру в управлении поместьем, которое когда-нибудь перейдет к нему самому.
Роджер должен был стать священником: уравновешенный тугодум, он подходил для этого как нельзя лучше. Но он отклонил предложение принять сан и предпочел более активный и предприимчивый образ жизни – и перед ним открылись самые разные возможности. Роджер мог стать кем угодно; он умел быть полезным и практичным и годился для любого ремесла или службы, которые были закрыты для Осборна в силу его привередливости, брезгливости и псевдогениальности. Хорошо, что Осборн был старшим сыном, поскольку никогда не смог бы бороться с окружающим миром; что же касается обучения его какому-нибудь ремеслу, то это было все равно что рубить дрова бритвой! И вот Осборн вынужден был сидеть дома, хотя душа его рвалась совсем в другое место. Выплата ему ежегодного денежного пособия фактически прекратилась; на самом деле последние год или два деньги ему приходили исключительно благодаря недюжинным усилиям матери. О том, что сейчас он не получал ничего, отец и сын не заговаривали – слишком больной была эта тема для обоих. Время от времени сквайр швырял ему десятифунтовую банкноту, но недовольное ворчание, сопровождавшее каждый такой жест, и полная неуверенность в том, получит ли он деньги в следующий раз, делали любые расчеты и надежды, основанные на их регулярном поступлении, зыбкими и ненадежными.
«Чем, ради всего святого, я мог бы заняться, чтобы обеспечить себе доход?» – думал Осборн, повернувшись спиной к жаркому огню в камине и держа в руках кофейную чашечку старинного китайского фарфора, передававшегося в семье из поколения в поколение. Костюм его был безупречен, как и любое другое его платье. Посторонний наблюдатель, глядя на этого элегантного молодого человека, стоявшего посреди комфорта, граничащего с роскошью, никогда бы не поверил, что он ломает голову над самой насущной для него проблемой, но именно так все и обстояло на самом деле. «Что мне сделать, дабы обеспечить себе хотя бы нынешний доход? Потому что дальше так продолжаться не может. Мне нужна будет поддержка на протяжении двух или трех следующих лет, даже если я поступлю в «Темпл» или «Линкольнз»[58]. На мое армейское жалованье прожить будет невозможно, кроме того, подобное занятие мне претит. Собственно говоря, в каждом ремесле имеется свое неизбежное зло, и я не смогу заставить себя взяться ни за одно из тех, о котором знаю. Пожалуй, духовный сан подходит мне более всего, но ведь при этом придется каждую неделю писать проповеди, вне зависимости от того, есть мне что сказать или нет, и быть обреченным общаться с людьми, уступающими мне по уровню образования и утонченности! Но ведь бедная Эйми должна иметь деньги. Мне невыносима мысль о том, сколь роскошны наши обеды здесь, изобилующие копченостями, мясом дичи и сладостями, в то время как Эйми вынуждена довольствоваться двумя крошечными бараньими ребрышками. С другой стороны, что скажет отец, если узнает, что я женился на француженке? В его нынешнем состоянии духа он попросту лишит меня наследства, если это возможно, а уж отзываться о ней станет в манере, которую я не смогу стерпеть. К тому же она еще и католичка! Впрочем, я ни о чем не жалею. И готов сделать это снова. Ах, если бы мать была жива, если бы она выслушала мою историю и узнала Эйми! Теперь же я вынужден хранить свой брак в тайне… Но где мне взять денег? Где взять денег?..»
А потом он вдруг вспомнил о своих стихах – будут ли они продаваться и принесут ли ему деньги? Несмотря на пример Мильтона[59], он весьма рассчитывал на это и отправился к себе в комнату за своими рукописями. Затем Осборн присел подле камина, пытаясь критически оценить их и представить, насколько это возможно, мнение общественности. Со времен миссис Хеманс он сменил свой стиль, став поэтом-подражателем; в последнее же время он во всем следовал канонам, предложенным автором популярных сонетов. Он принялся перелистывать свои стихи: они были почти что автобиографическими. Разложенные по порядку, они выглядели следующим образом:
«К Эйми, гуляющей с малышом». «К Эйми, напевающей за работой». «К Эйми, отвернувшейся от меня, когда я поведал ей о своей любви». «Признание Эйми». «Эйми в отчаянии». «Чужая страна, прибежище Эйми». «Обручальное кольцо». «Жена».
Дойдя до последнего сонета, он отложил в сторону стопку бумаг и задумался. «Жена». Да, причем жена-француженка, а вдобавок еще жена-католичка – и жена, которая работала по найму! А его отец ненавидит французов, всех вместе и по отдельности – всех вместе, как буйных и жестоких негодяев, казнивших своего сюзерена и совершивших множество кровавых зверств; по отдельности – в лице «Бони»[60] и различных карикатур на «Джонни Крапо»[61], имевших хождение двадцать пять лет тому, когда сквайр был еще молод и способен поражаться чему-либо. Что же касается религии, в которой воспитывалась миссис Осборн, достаточно сказать, что о женской эмансипации уже заговорили некоторые политики, но громкий протестующий хор подавляющего большинства англичан при одном только упоминании об этом уже звучал вдали опасным ревом буйного океанского прибоя. Заикнуться об этом перед сквайром, как прекрасно осознавал Осборн, значило то же самое, что помахать красной тряпкой перед носом быка.
Затем он представил, что было бы, если бы Эйми благополучно появилась на свет у родителей-англичан, в самом сердце Англии – в Уорикшире, например – и никогда не слыхала бы о католических священниках, мессе, исповеди, Папе Римском или Гае Фоксе[62]. Если бы она получила крещение и воспитание в англиканской церкви, не подозревая о существовании молитвенных домов или папистских молелен… Но даже обладая всеми этими преимуществами, тот факт, что она была (как по-английски будет «бонна», слово «воспитательница» здесь не годится?) воспитательницей-служанкой в детской, получала жалованье один раз в квартал и могла потерять место с уведомлением за месяц, при этом довольствуясь скупо выделяемыми ей чаем и сахаром, стал бы шоком для отца, гордившегося своей старинной родословной, от которого он едва смог бы оправиться.
«Если бы он увидел ее! – думал Осборн. – Если бы только он увидел ее!» Но если сквайр увидит Эйми, то заодно услышит и ее ломаный английский, милый и дорогой ее мужу, поскольку именно на нем она сбивчиво призналась ему в том, что любит его со всем пылом своего французского сердечка. А ведь сквайр самонадеянно полагал, что ненавидит все французское. «Она бы стала для него любящей, милой и послушной маленькой дочерью. Она бы даже смогла заполнить ту пустоту, что образовалась в его сердце и доме, если бы только он позволил ей. Но ведь этого не будет, он никогда не пойдет на такой шаг, и у него не будет возможности узнать ее поближе. Тем не менее, если в этих сонетах я назову ее «Люси», если они произведут фурор – получат положительные рецензии в «Блэквуд» и «Квортерли» – и весь мир станет сходить с ума, стремясь узнать, кто автор, я раскрою ему свою тайну… Я смогу это сделать, если добьюсь успеха, и тогда, быть может, он пожелает узнать, кто такая Люси, а я в ответ расскажу ему все. Если… Как же я ненавижу эти «если»! Ах, если бы можно было обойтись безо всяких «если». Вся моя жизнь была построена на «когда», потом оно поменялось на «если», а теперь и вовсе исчезло без следа. Поначалу это было «когда Осборн прославится», затем стало «если Осборн…», после чего наступил крах. Я говорил Эйми: «Когда моя мать увидит тебя», а теперь говорю себе: «Если бы только отец увидел ее», причем перспективы самые туманные». В таких бесплодных раздумьях он и провел вечерние часы, преисполнившись внезапной решимости испытать судьбу своих стихов у издателя, ожидая немедленно получить за них деньги и втайне мечтая о том, что, получив широкую известность, они перевернут его жизнь.