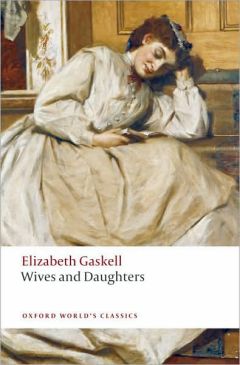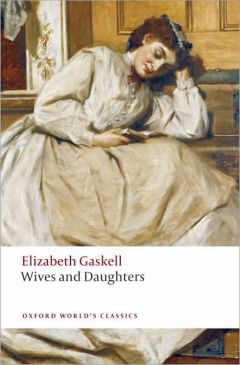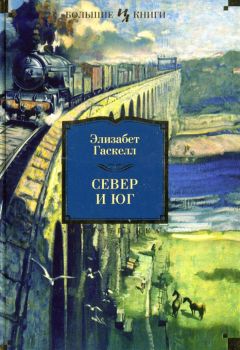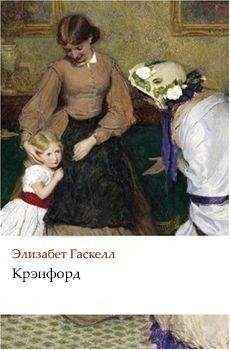Элизабет Гаскелл - Жены и дочери
Осборн же, напротив, был из тех, кого в просторечии именуют «неженками»; в одежде и манерах он бывал утончен до женственности и внимателен даже в мелочах. Все эти черты старшего сына отец превозносил до небес, когда ожидал от него блестящей карьеры в Кембридже. В то время он расценивал привередливость и элегантность Осборна как еще одну веху на пути к выгодному и состоятельному браку, долженствующему вернуть былое богатство семейства Хэмли. Но теперь, когда Осборн едва получил степень и все хвастливые речи и ожидания его отца оказались напрасными, теперь, когда привередливость привела к неожиданным расходам (если принять самую невинную изо всех причин его невероятных долгов), привычки и манеры бедного молодого человека стали источником постоянного раздражения его отца. Будучи дома, Осборн по-прежнему увлеченно занимался своими книгами и сочинительством; подобное времяпрепровождение порождало очень немного точек соприкосновения и общих тем для разговоров, когда они встречались за обеденным столом или по вечерам. Пожалуй, дела бы шли лучше, если бы Осборну нравились забавы на свежем воздухе, но он страдал близорукостью и потому не интересовался увлечениями младшего брата, требовавшими изрядной наблюдательности. К тому же Осборн был мало знаком с другими молодыми людьми своего круга в графстве, а от охоты, которой он некогда страстно увлекался, в этом сезоне пришлось отказаться, поскольку отец избавился от тех одного или двух егерей, которых держал ранее.
И вообще, расходы на содержание дома пришлось сильно урезать, и сэр Хэмли, понимая, что сокращение это сильнее всего ударило не только по нему, но и по образу жизни Осборна, с каким-то болезненным наслаждением вводил свои ограничительные меры. После смерти мадам старый экипаж – тяжелая и громоздкая семейная карета, приобретенная в дни относительного благополучия, – стал никому не нужен и потихоньку приходил в полную негодность в темном и заросшем паутиной углу каретного сарая. Лучшую из двух упряжных лошадей запрягли в двуколку, которую приспособил для своих нужд сквайр, то и дело горестно сетующий, что впервые за много поколений Хэмли из Хэмли не могут позволить себе иметь собственный выезд. Второго упряжного коня отправили пастись на травку, потому что он стал слишком стар для привычной работы. Победитель с ржанием подбегал к ограде всякий раз, стоило ему завидеть сквайра, который неизменно припасал для любимца или корочку хлеба, или кусочек сахару, или яблоко. Сквайр жаловался на судьбу бессловесному животному, рассказывая ему о том, что со времен их молодости изменилось слишком многое. У сквайра никогда не было в обычае поощрять сыновей приглашать своих друзей погостить в Холле. Быть может, и это его свойство тоже стало следствием mauvaise honte, равно как и преувеличенно болезненного осознания им недостатков собственного поместья по сравнению с тем, к чему, по его мнению, молодые люди привыкли у себя дома. Несколько раз он излагал эту свою точку зрения Осборну и Роджеру, еще когда оба учились в Рагби.
– Видите ли, всех вас, учеников частных школ, связывают особые дружеские отношения и на чужаков вы смотрите так, как я, скажем, смотрю на кроликов и все то, что не является дичью. Да-да, можете смеяться, если хотите, но это действительно так. И ваши товарищи будут поглядывать на меня искоса и ни разу не вспомнят о моей родословной, которая, готов биться об заклад, наверняка в сто раз длиннее их собственной. Нет, здесь, в Холле, я не желаю видеть никого, кто будет взирать на Хэмли из Хэмли сверху вниз, пусть даже он ставит крестик, вместо того чтобы расписаться полным именем.
Разумеется, они не должны были наносить визиты в дома, чьим сыновьям сквайр не мог ответить тем же гостеприимством. По всем этим пунктам миссис Хэмли постаралась пустить в ход все свое влияние, но ее усилия были тщетны: предрассудки супруга остались непоколебимыми и неизменными. Что же касается положения сквайра как главы старейшего семейства в трех графствах, то тут его гордость была неуязвима. Если же говорить лично о мистере Хэмли, который чувствовал себя не в своей тарелке в обществе равных и испытывал недостаток хороших манер и образования, то он был слишком уязвлен и чрезмерно страдал от застенчивости и даже робости, чтобы называть ее смирением.
Возьмем, к примеру, одну из многочисленных сцен, наглядно иллюстрирующих отношения между сквайром и его старшим сыном, каковые, если его и нельзя было назвать активным противостоянием, все же демонстрировало по меньшей мере пассивное отчуждение.
Это случилось однажды мартовским вечером уже после смерти миссис Хэмли. Роджер был в Кембридже. Осборн тоже отлучался из дома, но не пожелал предоставить никаких сведений относительно своего отсутствия. Сквайр полагал, что Осборн был или в Кембридже у своего брата, или в Лондоне. Он был бы рад узнать, где пропадал его сын, чем занимался и кого видел, просто в качестве новостей, а заодно и отвлечения от домашних невзгод и неурядиц, особенно обострившихся в последнее время, однако гордость не позволяла ему задавать вопросы, и потому Осборн не рассказал ему никаких подробностей своей поездки. Угрюмое молчание лишь усугубило снедавшее сквайра чувство внутреннего неудовлетворения, и он, усталый и раздраженный, вернулся домой к обеду через день или два после возвращения Осборна. Было уже шесть часов, и сэр Хэмли поспешно вошел в комнату на первом этаже, служившую ему кабинетом, после чего, вымыв руки, отправился в гостиную. Ему казалось, что он сильно опаздывает, но там никого не было. Пытаясь согреть руки у огня, он бросил взгляд на часы, стоявшие на каминной полке. Развести огонь к его приходу никто не озаботился; камин был завален полусырыми дровами, которые шипели и дымились, вместо того чтобы освещать и обогревать комнату, по которой гуляли пронизывающие сквозняки. Часы остановились, и завести их позабыли, но карманные часы сквайра показывали, что время обеда уж миновало. В дверь просунул голову старый дворецкий, но, видя, что хозяин один, уже собрался прикрыть ее за собой и подождать мистера Осборна, прежде чем объявить, что обед подан. Он надеялся остаться незамеченным, но сквайр застал его врасплох.
– Почему обед еще не готов? – резко спросил он. – Уже десять минут седьмого! Вот, кстати, откуда взялись эти дрова? У такого огня просто невозможно согреться.
– Полагаю, сэр, что Томас…
– Не рассказывайте мне о Томасе. Распорядитесь немедленно подавать обед.
Минуло еще минут пять, которые голодный сквайр провел в сердитом ожидании. Сначала он набросился на Томаса, который явился разжечь огонь, затем расшвырял поленья, пытаясь заставить их гореть, но только поднял снопы искр, чем уменьшил шансы согреться, а потом взялся снимать нагар со свечей, которые, по его мнению, давали слишком мало света для такой большой и холодной комнаты. Пока он неистовствовал, в комнату в полном вечернем облачении сошел Осборн. Он всегда двигался неспешно, что неизменно раздражало сквайра. А потом вдруг сквайр сообразил, что по сравнению с безукоризненным нарядом Осборна сам он одет чрезвычайно неряшливо: грубый черный сюртук, тускло-коричневые бриджи, мятый клетчатый шейный платок, забрызганные грязью сапоги. Он предпочел отнести это на счет излишней манерности Осборна и уже готов был разразиться саркастическим замечанием, когда дворецкий, видевший, как Осборн спускается по лестнице, вошел в комнату, дабы объявить, что ужин подан.
– Но ведь наверняка шести часов еще не пробило, не так ли? – осведомился Осборн, вытаскивая свои изящные маленькие часики. Он даже не подозревал о том, что над его головой сгущаются тучи и вот-вот разразится буря.
– Шесть часов! Да уже более четверти седьмого, – проворчал отец.
– Полагаю, вы ошибаетесь, сэр. Я сверял свои часы с часами на здании штаба Королевской конной гвардии всего два дня тому.
Подвергнув сомнению надежность старинных и добротных часов сквайра в форме луковицы, Осборн нанес отцу оскорбление, на которое тот хотя и не мог обидеться, но и простить – тоже. Эти часы ему подарил отец еще в те времена, когда часы были часами. Тогда они задавали тон всем остальным часам – и в доме, и на конюшне, и в кухне, и даже в церкви Хэмли в былые дни. Так неужели же теперь, в годы респектабельной старости, на них будет смотреть свысока какая-то французская финтифлюшка, способная уместиться в жилетном карманчике, вместо того чтобы быть извлеченной с должным усилием, как полагается респектабельным часам соответствующего размера и положения, из кармана для часов на поясе? Нет! Пусть даже на защиту финтифлюшки выступит Королевская конная гвардия и вся лейб-гвардия в придачу! Бедному Осборну следовало бы подумать трижды, прежде чем третировать плоть и кровь отца, который настолько дорожил своими часами!
– Мои часы похожи на меня самого, – изрек сквайр, – капризные и неуживчивые, как выражаются шотландцы, зато простые и надежные. Во всяком случае, в моем доме они – главные. А король может сверяться с часами на штабе Королевской конной гвардии, если ему придет такая блажь.