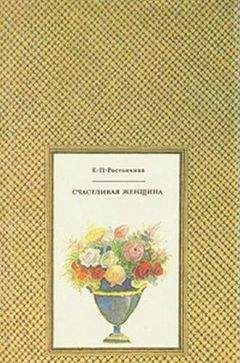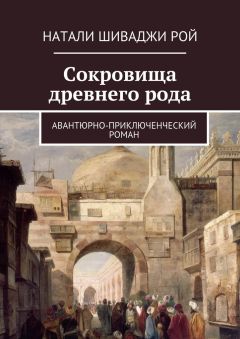Анатолий Байбородин - Озёрное чудо
— Скоро светает, Игорь. Пора домой. Мать, наверно, с ума сошла. Зада-аст баню.
— Тебе сколько лет?
— Закисла в девках.
— Нет, ты что, для матери — маленькая ляля?
Они ещё побродили по хрустящему песку, забрались в бокастую лодку-сетвовуху, причаленную к дощатым мосткам, с коих бабы воду черпают, и, невольно раскачав лодку, невольно очутившись в объятиях, пали на широкую скамью. До греха рукой подать, но Лена, хотя и не расцепив объятия, села прямо и неуклонно.
— Лена, поплыли на Красную горку?
— На Красную горку?
— А что, на Красной горке — красота, ни в сказке сказать, ни пером описать. А почему Красная горка?
— Красивая — а по-ранешни, красная. А потом…бабка поминала… там справляли Красную Горку — девий праздник. Кажется, первое воскресенье после Пасхи.
— И чего праздновали?
— После заутрени…сперва же в церкви молились… собирались парни, девки и праздновали Красную Горку на…красных горках — на красивых горках: пели, плясали, хороводились. Женихи невест выбирали — праздник-то девий…
— Я бы тебя, Лена, выбрал, — прошептал Игорь, и, обняв крепче, стал ловить воспалённым ртом её ускользающие губы, отчего лодка пуще раскачалась.
— Успокойся, Игорь, — девушка уперлась руками в его грудь. — Не гони. В деревне пели: хотел милый полюбить шибко на поспех, ну а вышло у него курам на посмех.
— Дурацкая частушка… Я же люблю тебя, — снова облапил девушку, но та, склонив голову, ловко вывернулась из объятий, и от греха подальше пересела на кормовую лавку.
— Не смеши, Игорь. Какая любовь?! Похоть… Любовь — дар Божий. Любить можно Бога, ближнего, а у бабы с мужиком жаль припасена. «Любовь» на языке не трепали — имя Бога, а говорили: он ее жалеет или она его жалеет.
— Жалость оскорбительна и унизительна.
— Богохулы выдумали от гордыни, а ты повторяешь… А в народе русском поговорка была: человек жалью живёт. А в девичьих страданиях пели:
Закатилось красно солнышко,
Не будет больше греть.
Далеко милый уехал,
Меня некому жалеть[55].
— Ох, Лена, Лена! — Игорь, ломая спички, нервно запалил сигарету. — Не понимаю я тебя. То — слишком умная, а мужики умных не любят, то — баба деревенская… с кондовым, средневековым мышлением. Баба бабой, что пашет от темна до темна, света белого не видит, плодится, как крольчиха, да в церкви крестится…
Гуще заварилась ночь, и когда впотьмах, словно ослепшие, спотыкаясь на кочках и рытвинах, добрели до уваровского дома, Игорь…жаль прощаться, не солоно хлебавши… опять сжал девушку в объятиях, беспрокло пытаясь поцеловать. Бормотал беспамятно:
— Я же люблю тебя, люблю…
— Бабу деревенскую?
— Бабу… Я и в городе, и по дороге думал о тебе. Я…
— Я, я, я!.. — вздохнула Лена. — А когда — я?., про меня забыл?.. Думал: ах, как хорошо мне будет с Леной, а каково Лене с тобой?., о том не печалился?
— Плохо со мной?
— Дурачок ты, Игорь, хоть и умный, — тесно прижавшись, вдруг коснулась прохладными губами его раскаленных губ и, оторопевшего, оставила на приозёрной улице.
XXIII
…Когда на крыльце простучали каблуки и дверь насмешливо отскрипела, укрыв за собой девушку, обиженный Игорь помаячил возле тёмных окон — а вдруг выйдет… — но, несолоно хлебавши, тронулся на учительскую фатеру. Погудывало во всем теле, шумела голова, будто с великого похмелья; во рту ссохлось, и ноги, одеревеневшие, не слушались, хоть ложись под окнами и спи. Но деваться некуда, надо топать до ночлежки, и скоро Игорь размялся, разошёлся, повеселел и даже стал припевать то, что сроду не пел, но слышал в застольях, что дивом дивным осело в память:
Не-е житьё-о мне зде-есь без ми-ило-ой,
С ке-ем пойду-у тепе-ерь к венцу-у…
Не вспомнив дальше, завёл про модную в то лето горечь:
Я от горечи целую
Всех кто молод и хорош…
Ты от горечи другую
Ночью за руку берёшь…
Горечь, горечь, — вечный привкус,
На губах твоих, о страсть…
Так с песнями и добрёл до учительской фатеры, и когда запалил керосинку в опрятной кути, то даже присвистнул от ди-вья, — на столетне золотисто румянились копчёные окуни, рядом две крынки с молоком и сметаной, укрытые ломтями хлеба. Игорь, мысленно поклонившись Степану и тётке Наталье, жадно накинулся на еду, — после ночных азартных гуляний жор нападает.
Потом долго вертелся в учительской постели, не привычной к беспокойным ночлежникам, то насвистывая, то напевая залетевший в рот блатной куплетик:
У девушки с острова Пасхи
Родился коричневый мальчик…
Напевал, не понимая и не слыша слов, пока вертлявый куплетик не набил оскомину; и чтобы отвязаться от него, попробовал негромко завести нечто русское, привольное, но куплетик, как пьяный разлохмаченный луканька, не слазил с языка, вертелся, выплясывая, похабно изгибаясь и вихляясь. Спасли полуночные певни — мимо барака тихо плыло «девичье страдание»; Игорь слетел с койки, прилип к сырой и холодной стеклине, но в темени узрел лишь безлунную, беззвездную ночь, отчего чудилось: ночь поёт, запомнив «девичье страдание»:
…Мы обнимались, слезно прощались,
Помнить друг друга мы обещались,
Нет у меня с той поры уж покою,
Верно, гуляет милый с другою.
Пташки-певуньи, правду скажите,
Весть про милого вы принесите,
Где милый скрылся, где пропадает,
Бедное сердце плачет, страдает.
Если забудет, если разлюбит,
Если другую мил приголубит,
Я отомстить ему поклянуся,
В речке глубокой я утоплюся…
Всплескивался в ночи высоко и нежно звенящий девий голос, подтягивали согласные подруги, абы с песни полегчало, посветлело на душе от вековечной бабьей печали.
Ушли полуночные певни, уплыло «девичье страдание», но сквозь стенку просочился детский плач, а когда плач стих в глуховатом, сладко-унывном, колыбельном пении, послышались вкрадчивые шаги, неразборчивые голоса — вроде бы, мужской сипящий и тоненький девий, позванивающий переливистым смехом. Слушать любовную песнь было невмоготу, и, тихо поднявшись, прихватив книгу Ивана Бунина «Тёмные аллеи», отрытую на книжной полке, Игорь удалился в кухню. Но чтение не шло на ум, завидовал молодым, живущим через стенку. Вспомнил соседского парня, не похожего на тутошних корявых рыбаков, рослого, темноволосого красавца, с неожиданными на буром лице синеватыми весёлыми глазами; вспомнил с завистью к синеглазому и жёнку его, белую, пышнотелую, проплывающую мимо окна с грудным чадом на руках.
Игорь вдруг остро и болезненно почуял сиротливость и одиночество, и от жалости к себе потекли слезы. И уж вроде в полную душеньку хотелось жить так же, как молодые соседи: за порогом — осенняя тайга, ночной ветер гудит, раскачивая вершины берёз, тревожно дышит спросонья озеро, а в доме тепло и тихо, под боком желанная и богоданная Елена-краса, а рядом в берестяной зыбке, подвешенной к потолку, чадо малое, порозовевшее щеками от цветастых ласковых снов…
Устав читать и сна не дождавшись, вышел на крыльцо, огляделся, вдыхая озёрную прохладу. Серебристо светлел край неба над хребтом, и по озеру плыл туман, дул предутренний стылый ветерок.
Любодейные «Темные алей», потеснив домостройные видения, разбередили, распалили блудную душу; и лишь под утро, начитавшись до отупения, накурившись до позеленения, навооб-ражав до омерзения, забылся в тяжком сне. Снилось кошмарное непотребство…ох, не читал бы на ночь искусительные «Темные аллеи»… где Игорь такое вытворял, стыд сказать, грех утаить; и, потный, жаркий, с болью в висках проснулся от ветра, треплющего ставни. Проснулся на рассвете, тоскливом и мутном; оказывается, и спал-то крохи; долго лежал разбитый, не в силах опустить ноги на половицы. Поморщился, вспомнив вчерашний вечер: театр масок, театр теней… С трудом сошел с койки, глянул в зеркало, висящее над комодом, и отшатнулся, — из клубящейся тьмы явилось пепельное, опустошённое лицо с космами, взъерошенными, торчащими над ушами, словно кривые рожки.
«Кошмар! — чуть не плюнул в богомерзкое отражение. — Бред сивой кобылы… Выдумал — любовь… Огни и воды, поди, прошла, и воображает из себя. Глупая, как пробка, а рассуждает, — жалость, любовь. Ещё и Бога приплела…»
И тоской, мутно зелёной, пьяной, пропахшей квашеной рыбой и махрой, дохнуло от заимской жизни, и уже от воображенной яравнинской жизни хотелось застрелиться, утопиться, повеситься, напиться. «Может, уехать сегодня. Вечером от магазина грузовик пойдёт. Хорошо в Яравне, но в городе лучше… Хорошо в деревне летом, пахнет сеном и назьмом… Каждому своё на белом свете: кому навоз выгребать, а кому цветы сажать и стихи писать…»