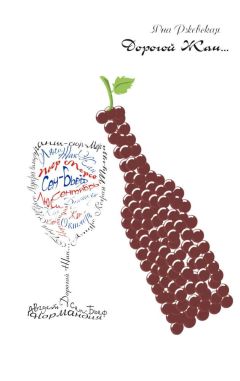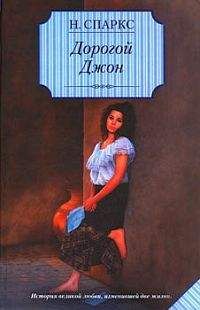Джон Голсуорси - Девушка ждёт
– Какие новости, Динни?
– Пока все в порядке. Я сейчас еду прямо туда.
Публика, как известно, любит посочувствовать чужим переживаниям, – снаружи собралась кучка прихожан Хилери; когда Джин и Хьюберт сели в свою двухместную машину и тронулись в путь, их проводили визгливыми напутствиями.
– Поедем со мной, дядя, – сказала Динни.
– А Ферз не сердится, что ты там живешь? – спросил в такси Адриан.
– Он со мной вежлив, но все время молчит и глаз не сводит с Дианы. Мне его ужасно жалко.
Адриан кивнул.
– А как она?
– Держится замечательно, как ни в чем не бывало. Вот только он не хочет выходить из дому; сидит в столовой и что-то высматривает в окно.
– Ему, видно, кажется, что весь мир в заговоре против него. Если только ему не станет хуже, это скоро пройдет.
– А разве ему непременно должно стать хуже? Ведь бывают же случаи полного выздоровления?
Насколько я понимаю, тут на это рассчитывать нечего. Против него наследственность, да и характер.
– Он бы мог мне понравиться – у него такое смелое лицо, – но я боюсь его глаз.
– Ты его видела с детьми?
– Еще нет; но они говорят о нем хорошо и спокойно; видно, он их не напугал.
– В клинике они что-то объясняли мне на своем птичьем языке насчет комплексов, маний, депрессий и раздвоения личности; как я понял, приступы глубокой меланхолии чередуются у него с приступами сильнейшего возбуждения. За последнее время те и другие смягчились до такой степени, что он почти выздоровел. Надо остерегаться рецидивов. В нем всегда жил мятежный дух; во время войны он бунтовал против командования, после войны – против демократии. Теперь, вернувшись, он наверняка затеет что-нибудь еще. А как только это случится, он сразу же свихнется опять. Если в доме есть оружие, Динни, его надо спрятать.
– Я скажу Диане.
Такси свернуло на Кингс-Род.
– Лучше мне не провожать тебя до самого дома, – печально сказал Адриан.
Динни вышла из машины вместе с ним. С минуту она постояла, глядя, как удаляется его высокая, сутулая фигура, потом повернула на Окли-стрит и открыла дверь своим ключом. На пороге столовой стоял Ферз.
– Войдите сюда, – сказал он, – мне нужно с вами поговорить.
В этой зеленовато-золотистой комнате, обшитой панелями, недавно отобедали; на узком столе лежали газеты, книги, стояла коробка с табаком. Ферз пододвинул Динни стул и встал спиной к огню, который никак не мог разгореться ярким пламенем. Ферз на нее не смотрел, и Динни могла разглядеть его лучше, чем когда бы то ни было. Его красивое лицо производило тягостное впечатление. Острые скулы, упрямый подбородок, вьющиеся волосы с проседью только подчеркивали жадно горящие серо-голубые глаза. И даже его поза, – он стоял, широко расставив ноги, подбоченясь, вытянув вперед шею, – тоже подчеркивала этот лихорадочный взгляд. Динни откинулась на стуле; ей было страшно, но она старалась улыбаться. Повернувшись к ней, он спросил:
– Что обо мне говорят?
– Не знаю; я была на свадьбе брата.
– Хьюберта? На ком он женился?
– На Джин Тасборо. Вы ее тут на днях видели.
– А! Помню. Я ее запер.
– Зачем?
– Она показалась мне опасной. Знаете, я ведь поехал в клинику по доброй воле. Меня никто туда не помещал.
– Конечно. Я знаю, что вы находились там по доброй воле.
– Мне там было не так уж плохо, но… ладно! Как я выгляжу?
Динни мягко сказала:
– Понимаете, ведь я вас раньше никогда вблизи не видела; но мне кажется, что вы выглядите очень хорошо.
– Я и чувствую себя хорошо. Я делал гимнастику. Со мной занимался санитар, которого ко мне приставили.
– Вы много читали?
– За последнее время – да. А что они обо мне думают?
Услышав этот вопрос вторично, Динни посмотрела ему прямо в глаза.
– Что они могут думать, раз они вас не видели?
– По-вашему, мне надо встречаться с людьми?
– В этом я ничего не понимаю, капитан Ферз. Но почему бы и нет? Встречаетесь же вы со мной каждый день.
– Вы мне нравитесь.
Динни протянула ему руку.
– Только не говорите, что вам меня жалко, – быстро сказал Ферз.
– Зачем мне вас жалеть? Я уверена, что вы совершенно здоровы.
Он прикрыл глаза рукой.
– Да, но надолго ли?
– Почему не навсегда?
Ферз отвернулся к огню.
– Если вы не будете волноваться, ничего с вами не случится, – робко сказала Динни.
Ферз круто повернулся к ней.
– Вы часто видели моих детей?
– Не очень.
– Они на меня похожи?
– Нет, они пошли в Диану.
– Слава богу хоть за это! Что думает обо мне Диана?
На этот раз он впился в нее глазами, и Динни поняла, что от ее ответа будет зависеть все – да, все.
– Диана очень рада.
Он неистово замотал головой.
– Это невозможно.
– Правда часто кажется невозможной. Она меня, верно, ненавидит?
– За что?
– Ваш дядя Адриан… что между ними было? Только не говорите мне «ничего».
– Дядя на нее молится, – тихо сказала Динни, – вот почему они просто друзья.
– Просто друзья?
– Просто друзья.
– Много вы знаете!
– Я знаю наверняка.
Ферз вздохнул.
– Вы хорошая. Что бы вы сделали на моем месте?
Динни снова почувствовала всю тяжесть своей ответственности.
– То, чего хочет Диана.
– А чего она хочет?
– Не знаю. Наверно, она и сама еще не знает.
Ферз задумчиво прошелся к окну и обратно.
– Я должен что-нибудь сделать для таких несчастных, как я.
Динни огорченно вздохнула.
– Мне ведь повезло. Таких, как я, врачи чаще всего признают ненормальными и упрятывают в сумасшедший дом. А будь я беден, нам бы эта клиника была не по карману. Там тоже не сладко, но куда лучше, чем обычно бывает в таких местах. Я расспрашивал своего служителя. Он знавал два-три таких заведения.
Ферз умолк, а Динни вспомнила слова дяди: «…Он наверняка затеет что-нибудь еще. А как только это случится, он сразу же свихнется опять».
Внезапно Ферз заговорил снова:
– Если бы у вас была хоть какая-нибудь работа, взялись бы вы ухаживать за помешанными? Никогда! Ни вы, ни кто другой, у кого есть нервы и душевная деликатность. Святые на это, вероятно, способны, но святых ведь не так уж много. Нет! Чтобы ходить за нами, нужно не знать жалости, быть железным человеком, иметь дубленую шкуру. Люди чувствительные для нас хуже толстокожих, – они не владеют собой, и это отражается на нас. Заколдованный круг. Господи! Сколько я ломал себе над этим голову! А потом – деньги. Если у больного есть деньги, не посылайте его в такие места. Никогда, ни за что! Устройте ему лучше тюрьму в собственном доме, где хотите, как хотите. Если бы я не знал, что могу уйти оттуда в любое время, если бы я не цеплялся за эту мысль даже в самые тяжелые минуты, – меня бы не было здесь сейчас… я был бы в смирительной рубашке. Господи! В смирительной рубашке! Деньги! Но у многих ли есть деньги? Может быть, у пятерых из ста. А остальных девяносто пять несчастных запирают в сумасшедший дом, запирают насильно. Все равно, как бы ни были хороши эти дома, как бы там хорошо ни лечили, – там все равно заживо хоронят. Иначе и быть не может. Люди на воле считают нас покойниками… всем на нас наплевать. Мы не существуем больше, сколько бы ни болтали о научных методах лечения. Мы непристойны… мы уже не люди… старые представления о безумии держатся крепко; мы – позор для семьи, жалкие неудачники. Вот нас и убирают с глаз долой, закапывают в землю. Делают это гуманно – двадцатый век! Гуманно! Попробуйте-ка сделать это гуманно. Вам не удастся! Тогда хоть подлакируйте сверху… подлакируйте, и все. Ничего другого не остается, уж поверьте мне. Поверьте моему служителю, он-то все знает.
Динни молча слушала. Ферз вдруг расхохотался.
– Но мы не покойники, вот в чем беда, – мы не покойники. Если бы только мы были покойниками! Все эти несчастные скоты – они еще не умерли; они способны страдать, как и всякий другой… больше, чем другой. Мне ли этого не знать? А как помочь?
Он схватился за голову.
– Неужели нельзя помочь? – тихо спросила Динни.
Он уставился на нее широко раскрытыми глазами.
– А мы только подлакируем погуще… вот и все, что мы можем; все, что мы когда-нибудь сможем.
«Тогда зачем себя изводить?» – чуть не сказала Динни, но сдержалась.
– Может быть, вы придумаете, чем помочь, – произнесла она вслух, – но это требует спокойствия и терпения.
Ферз рассмеялся.
– Я, наверно, наскучил вам до смерти.
И он отвернулся к окну.
Динни неслышно выскользнула из комнаты.
Глава двадцать третья
В этом пристанище людей, понимающих толк в жизни, – в ресторане Пьемонт, – понимающие толк в жизни пребывали в разных стадиях насыщения; они наклонялись друг к другу, словно еда сближала их души. Они сидели за столиками попарно, вчетвером, а кое-где и впятером; там и сям попадался отшельник с сигарой в зубах, погруженный в меланхолию или созерцание; а между столиками сновали тощие и проворные официанты, – привычка мучительно напрягать память искажала их лица. В ближнем углу лорд Саксенден и Джин уже расправились с омаром, осушили полбутылки рейнвейна, поболтали о том, о сем, наконец Джин медленно подняла глаза от пустой клешни и спросила: