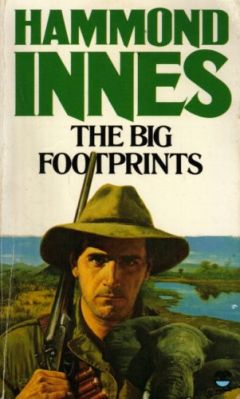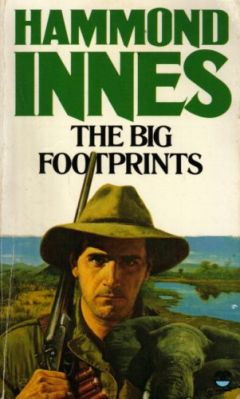Збигнев Ментцель - Все языки мира
Извозчик! Во сколько обойдется поездка с тремя предметами багажа?
Будь любезен, распишись в гостевой книге.
Нет на моем столе огнива.
Ты желаешь иметь эти книги сброшюрованными или в переплете?
Сколько стоит метр этого сукна? Назови последнюю цену.
Я позволил себе вызвать тебя, чтобы ты снял с меня мерку для сюртука.
Где можно приобрести добротные резиновые сапоги?
Я не в состоянии ходить в этих туфлях. Почему ты сделал их такими узконосыми? Ради моды я не хочу страдать.
Почтальон, можно я сяду к тебе на облучок?
«Руководство для ведения современных бесед…» напоминало мне нынешние «Разговорники» — из серии давно собираемых мною самоучителей издательства «Ведза повшехна», предлагавших выезжающим за границу полякам темы для интересных и полезных бесед с жителями зарубежных стран:
Какие пенсии получают у вас инвалиды?
Много ли детей рабочих и крестьян учатся в университетах?
Принимают ли у вас женщины участие в профсоюзном движении?
В Польше можно получить ссуду на строительство собственного домика. А у вас?
Хватает ли вам продуктов питания?
В Польше я часто слушаю по радио трансляции из оперного театра «Ла Скала». У вас есть такая возможность?
Смогу я достать в ваших магазинах мужские перчатки из светло-желтой свиной кожи?
Есть ли у вашей коммунистической партии своя газета?
Моя старшая сестра, выпускница института иностранных языков, смотрела на меня как на ненормального.
— Брат! Выброси все это дерьмо, — говорила она. — И не жаль тебе времени? Почему не взять какой-нибудь приличный учебник? Почему бы не поговорить с Мацеем?
Мацей, жених сестры, преподавал английский язык в Варшавском университете и пользовался исключительно новейшими дидактическими пособиями, привозимыми с Запада. В последнее время он рекомендовал своим студентам учебники Александра — якобы потрясающие. Один из них, «FIRST THINGS FIRST. An Integrated Course for Beginners»[40], я получил от него в подарок.
— Если хочешь, можешь ходить ко мне на занятия, — предложил он. — В группе как раз освободилось одно место.
Я пошел. Занятия проводились аудиовизуальным методом в оборудованной по последнему слову лаборатории. Студенты в наушниках сидели в закрытых застекленных кабинах, а преподаватель стоял на возвышении за пультом и мог в любой момент соединиться с каждым по отдельности или со всеми сразу.
Я занял место в кабине, которую указал мне Мацей, и надел наушники, сильно сомневаясь, что пойму хоть малую часть из того, о чем пойдет речь.
— Lesson seventy five, — через минуту услышал я энергичный голос с пленки.
Я понял. Урок семьдесят пять. С начала года студенты уже успели пройти половину учебника.
Я поправил наушники, чтобы плотнее прилегали к ушам, открыл Александра на нужной странице и посмотрел на Мацея, который подбадривающе мне кивнул.
— Have you any shoes like these? (У вас есть такие туфли?) — раздалось в наушниках.
Текст семьдесят пятого урока представлял собой диалог между продавцом обувного магазина и покупательницей. Преподаватель попеременно вселялся в образ то одного, то другого персонажа, ловко используя заранее заготовленные реквизиты.
Я сразу понял, почему жених моей сестры пять раз подряд выигрывал конкурс на самого любимого студентами преподавателя. Он был прирожденный педагог. На уроке выкладывался полностью.
Как же он работал! Я восхищался его плавными, слаженными движениями, наблюдая, как он управляется с магнитофоном, перематывая пленку ровно на столько, на сколько нужно — не дальше и не ближе, — чтобы каждая фраза, которую нам следовало повторить, начиналась в надлежащем месте.
— Have you any shoes like these? — повторили мы вопрос покупательницы, а преподаватель, как иллюзионист, вытаскивающий кролика из цилиндра, внезапно извлек из-под пульта дамские лодочки, в которых я узнал уже сильно поношенные туфли моей сестры.
— What size? — Size five. — What colour? — Black (Какой размер? Пять. Какой цвет? Черный), — выспрашивал продавец, чтобы в конце концов с непритворным сожалением сообщить, что, хотя месяц назад у него были именно такие туфли, сейчас их уже нет.
— Can you get a pair for me please? (Вы сможете заказать для меня одну пару?) — клиентка явно не теряла надежды рано или поздно приобрести в этом магазине черные лодочки пятого размера.
— I’m afraid that I can’t (Боюсь, что не смогу), — разводил руками продавец и объяснял, что полюбившиеся клиентке туфли, модные целых два сезона, недавно вышли из моды, и заказать их уже никак не удастся.
Диалог неуклонно стремился к эффектному завершению.
— These shoes are in fashion now (Сейчас в моде такие туфли), — раздался в наушниках голос продавца, и в ту же секунду Мацей показал нам умопомрачительные красные туфельки на высоченном тонком каблуке. Где он, черт побери, такие раздобыл? Я просто диву давался.
— They look very uncomfortable (Они выглядят очень неудобными), — растерянно произнесла покупательница, и эту реплику нам пришлось выслушать с магнитофонной ленты трижды.
Я чувствовал, что вот-вот произойдет самое важное.
— They look very uncomfortable, — в четвертый раз повторил уже Мацей, высоко поднял указательный палец, выдержал для пущего эффекта довольно долгую паузу и, нажав какую-то клавишу, пустил на полную громкость ответ продавца:
— They are very uncomfortable. But women always wear uncomfortable shoes! (Они очень неудобные. Но женщины всегда носят неудобную обувь).
Когда через минуту я вместе со всей группой под управлением Мацея ритмично, раскачиваясь как в трансе, повторял раз за разом: «They look very uncomfortable. They are very uncomfortable», могло показаться, что еще несколько уроков по учебнику Александра, и я наконец заговорю по-английски. Скажу, кем я был, кто я есть и что в своей жизни должен незамедлительно изменить.
Месяц спустя один знакомый неожиданно предложил мне поехать в Лондон. Квартира и работа — разумеется, «по-черному» — мне были гарантированы. Заработок? Четыре фунта в час. Очень приличная ставка. Я подсчитал, что, трудясь по шесть часов в день, смогу за три месяца заработать три с лишним тысячи фунтов! Больше, чем сумма, за которую я хотел продать самую драгоценную семейную реликвию — золотые часы с черным рельефом на крышке, траурные часы, заказанные прабабушкой после разгрома Январского восстания.
Вначале поездка не казалась мне реальной.
Чтобы получить заграничный паспорт и визу, нужно было иметь приглашение.
Откуда его взять?
На знакомого тут рассчитывать не приходилось.
14
Speak to me…
Помочь с приглашением я попросил отца. Он обещал посмотреть, что сумеет сделать. Когда? Трудно сказать. Надо набраться терпения. В свое время я все узнаю.
«Трудно сказать», «набраться терпения»… Ничего хорошего это не сулило. Почему нельзя сразу взяться за дело? Мать говорила, что, хотя отец никогда в жизни ничего не устроил, именно то, о чем я попросил, в виде исключения отвечало его возможностям.
Приглашение в Англию? Да ведь достаточно просто позвонить Радванскому. Неужели так сложно поднять трубку и набрать номер? Уж кто-кто, а Радванский — тот человек, к которому отец может обратиться без стеснения.
Стефан Радванский давно жил в Англии. Лучший друг отца, еще по кадетскому корпусу! На войне они в тридцать девятом оба попали в плен к немцам, пять лет провели бок о бок в лагере для польских офицеров в Вольденберге. «Лагерь», «барак», «нары» — когда отец рассказывал о Радванском, эти три слова, в особенности «нары», повторялись непрестанно: «на одних нарах», «двухэтажные нары», «соседние нары».
После освобождения из лагеря Радванский, в отличие от отца, не захотел возвращаться в Польшу. «Почему? Потому что был не дурак. Сразу почуял, чем дело пахнет», — объясняла мать. Он поехал в Англию и, хотя поначалу, похоже, бедствовал, потом, видимо, прочно встал на ноги, поскольку купил дом в Лондоне. Отцу он впервые написал только через десять лет. С тех пор из года в год, на каждое Рождество, Радванский присылал нам поздравительные открытки. И не простые: стоило раскрыть открытку, раздавались первые такты «Ночь тиха…», «Поспешают к Вифлеему пастушки…» или еще какой-нибудь известной колядки. Мать тогда радовалась как дитя. Музыкальная открытка! В Польше долго еще нельзя было достать ничего подобного.
Я заметил, что несколько лет подряд открытка из Лондона приходила в незаклеенном конверте, который кто-то — я не знал, кто, где и когда — вкладывал в прозрачный полиэтиленовый мешочек. Возле марки с головой английской королевы или на обратной стороне конверта красовался штемпель с надписью: «Внимание! Почтовое отправление поступило из-за границы в поврежденном виде!».
— Смотри и учись: вот так в Польше обстоит дело с тайной переписки, — повторял отец и объяснял мне, что все письма и бандероли с Запада у нас контролируются. — Этим мерзавцам, — говорил он, — которые вскрывают чужие письма, роются в них, читают, ищут доллары, отправленные бедным родственникам и знакомым, часто неохота снова заклеивать конверты, но ведь нужно соблюсти приличия, вот их и упаковывают в полиэтилен и ставят штемпель — без тени стыда вбивают людям в голову, будто это не наша, а зарубежная, западная почта работает спустя рукава, и во благо польских граждан приходится компенсировать ее вопиющую небрежность.