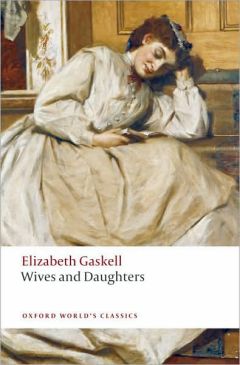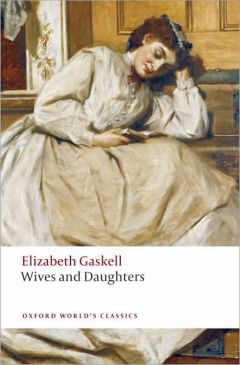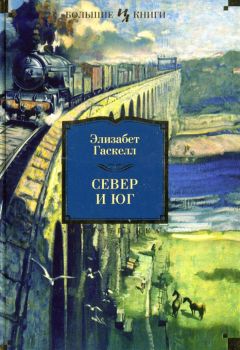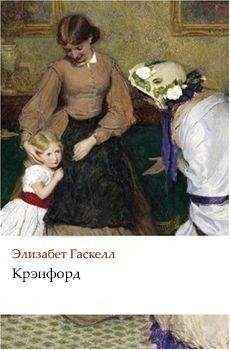Элизабет Гаскелл - Жены и дочери
Глава 41. Тучи сгущаются
Миссис Гибсон вернулась домой, переполненная самыми благостными впечатлениями о Лондоне. Леди Камнор была сама любезность и радушие, «ее очень тронуло мое появление, причем так скоро после ее возвращения в Англию»; леди Гарриет была очаровательна и полна добрых чувств по отношению к своей бывшей гувернантке; лорд Камнор «оставался такой же душкой, как и прежде»; что же касается Киркпатриков, то особняк самого лорд-канцлера не выглядел бы роскошнее, а атласная мантия королевского адвоката, казалось, парила над головами служанок и лакеев. Синтия тоже пребывала в полном восторге. Что же до ее нарядов, то миссис Киркпатрик буквально осыпала ее бальными платьями и гирляндами, очаровательными шляпками и мантильями, совсем как сказочная фея. Жалкие десять фунтов мистера Гибсона померкли рядом с этим великолепием и неслыханной щедростью.
– Они так полюбили ее, что я даже боюсь загадывать, когда она вернется, – сообщила в заключение миссис Гибсон. – Ну а чем занимались вы с папой, Молли? Судя по твоему письму, вам не пришлось скучать. В Лондоне у меня не было времени прочесть его, поэтому я сунула его в карман и прочла на обратном пути в дилижансе. Но, дорогое мое дитя, ты выглядишь крайне старомодно в этом обтягивающем платье и с распущенными кудрями. Локоны уже вышли из моды. Мы должны уложить твои волосы по-другому, – заявила она, пытаясь пригладить черные кудри Молли.
– Я переслала Синтии письмо из Африки, – застенчиво сказала Молли. – Вы, случайно, не знаете, что там было написано?
– О да, бедное дитя! Думаю, оно повергло ее в тревогу. Она заявила, что у нее нет желания появляться на балу у мистера Роусона, который был назначен на тот же вечер и для которого миссис Киркпатрик дала ей новое платье. Но на самом деле ей решительно не из-за чего было приходить в такое волнение. Роджер всего лишь сообщил, что с ним случился очередной приступ лихорадки, но что ему уже стало лучше. Он пишет, что все европейцы должны переболеть ею, если хотят акклиматизироваться в той части Абиссинии, где находится и он.
– Так она все-таки пошла? – спросила Молли.
– Да, разумеется. Это же не помолвка. А если и так, она ведь остается неофициальной. Ты только представь себе, как Синтия приезжает к кому-либо в гости и заявляет: «Один молодой человек, мой добрый знакомый, два месяца тому заболел на несколько дней в Африке, и поэтому я не хочу ехать на бал сегодня вечером». Это выглядело бы ненужной аффектацией чувств, и если я чего-либо терпеть не могу, так именно этого.
– Едва ли она сумела получить удовольствие, – заметила Молли.
– Совсем напротив. Платье у нее было из белого газа, отороченное сиреневым, так что выглядела она – матери позволено быть самую чуточку пристрастной – просто потрясающе. И она не пропустила ни одного танца, хотя и не была ни с кем знакома. Я уверена, что Синтия получила полное удовольствие, судя по тому, как она рассказывала о бале на следующее утро.
– Интересно, знает ли об этом сквайр.
– Знает о чем? Ах да, разумеется! Ты имеешь в виду Роджера. Думаю, что он еще ничего не знает, и я не вижу никакой необходимости рассказывать ему об этом, потому как не сомневаюсь, что с Роджером все уже в полном порядке.
С этими словами она вышла из комнаты, чтобы проследить за тем, как распаковываются ее вещи. Молли отложила рукоделие в сторону и вздохнула. «Завтра исполнится год с той поры, как он приехал и предложил нам совершить экскурсию в Херст-Вуд, и мама очень рассердилась на него за то, что он явился еще до ленча. Интересно, помнит ли об этом Синтия. А сейчас, наверное… Ох, Роджер, Роджер! Как бы мне хотелось… я молюсь о том, чтобы ты вернулся домой живой и здоровый! Это было бы невыносимо для всех нас, если ты…».
Закрыв лицо руками, Молли попыталась отогнать от себя непрошеные мысли. Внезапно она вскочила на ноги, словно пораженная неожиданной догадкой: «Не думаю, что она любит его так, как должна, в противном случае она бы… она бы не поехала на бал и не танцевала бы там весь вечер напролет. Но что же мне делать, если она не любит его? Что мне делать? Я могу вынести что угодно, но только не это».
Молли обнаружила, что неведение относительно состояния его здоровья невыносимой тяжестью легло ей на сердце. Они могли рассчитывать получить от него очередную весточку не ранее чем через месяц, а Синтия должна была вернуться домой задолго до этого срока. Молли поняла, что страстно жаждет увидеть ее еще до того, как минуло две недели со дня ее отъезда. Она и не подозревала, что бесконечные приватные разговоры с миссис Гибсон окажутся настолько тягостными, скучными и утомительными. Быть может, именно деликатное состояние ее здоровья, вызванное быстрым ростом и развитием на протяжении последних месяцев, стало причиной ее раздражительности, но девушке нередко доводилось вставать и выходить из комнаты, дабы успокоиться и прийти в себя после долгой череды сентенций, заунывных и невнятных куда чаще, чем жизнерадостных, к тому же не передающих ни чувств, ни мыслей той, которой они принадлежали. Это случалось всякий раз, когда что-либо шло не так или мистер Гибсон холодно настаивал на том, против чего она возражала; когда повариха совершала оплошность в приготовлении ужина или служанка нечаянно разбивала какую-то хрупкую безделушку; когда Молли сделала прическу, которая ей не нравилась, или надела платье, которое, по мнению миссис Гибсон, ей не шло; когда кухонные ароматы заполоняли собой весь дом или незваные гости нагрянули с визитом, а званые, наоборот, не пришли вовсе… Словом, по любому поводу или без оного миссис Гибсон принималась жалобно оплакивать бедного мистера Киркпатрика, даже не оплакивать, а едва ли не обвинять его в том, что, останься он жив, все было бы совсем по-другому.
– Я оглядываюсь на те счастливые времена, и мне кажется, что я не ценила их так, как должна была бы. Мы были молоды и любили, и какое нам было дело до нищеты и лишений! Помню, как однажды дорогой мистер Киркпатрик отправился пешком за пять миль в Стратфорд только ради того, чтобы купить мне сдобную булочку, потому что после рождения Синтии я очень полюбила их. Я вовсе не собираюсь жаловаться на дорогого папочку, но я не думаю… нет, пожалуй, я не должна говорить тебе этого. Ах, если бы мистер Киркпатрик обратил внимание на свой кашель, но он был таким упрямцем! Но таковы уж все мужчины, полагаю. Однако же с его стороны это было сущим эгоизмом. Правда, я уверена, что он не думал о том, что я могу остаться совсем одна, без средств к существованию. Для меня это стало настоящим ударом, куда более тяжелым, чем для большинства людей, поскольку я обладаю очень любящей и чувственной натурой. Помню, в одном из своих маленьких стихотворений мистер Киркпатрик сравнивал мое сердце со струной арфы, откликающейся на малейшее дуновение ветерка.
– А мне почему-то казалось, будто струны арфы нуждаются в прикосновении сильных пальцев, чтобы заставить их зазвучать, – заметила Молли.
– Мое дорогое дитя, в тебе не больше лирики, чем в твоем дорогом папочке. Вот, кстати, твои волосы! Они уложены хуже обычного. Ты не могла бы смочить их водой, дабы распрямить и убрать эти неопрятные завитушки?
– От этого они лишь начинают виться еще сильнее, когда высохнут, – ответила Молли, на глаза которой вдруг навернулись слезы, когда перед ее внутренним взором всплыла необычайно яркая картина, виденная и забытая много лет тому: молодая мать купает и вытирает полотенцем свою маленькую дочурку, усаживает ее, полуодетую, на колени и принимается бережно накручивать на пальцы влажные пряди черных волос, после чего, не сдержавшись, ласково целует ее в курчавый затылок.
Получение же писем от Синтии превращалось в настоящий праздник. Писала она нечасто, зато письма ее были неизменно длинными и весьма живыми и эмоциональными. В них постоянно встречались новые имена, которые ничего не говорили Молли, хотя миссис Гибсон и пыталась просветить ее на этот счет следующими комментариями:
– Миссис Грин! А это симпатичная кузина мистера Джонса, которая живет на Рассел-сквер со своим толстяком супругом. У них имеется собственный выезд… Впрочем, я не совсем уверена, быть может, это мистер Грин приходится кузеном миссис Джонс. Мы можем спросить об этом Синтию, когда она вернется домой. Мистер Гендерсон! Ну конечно, молодой человек с черными бакенбардами, бывший ученик мистера Киркпатрика. Или он был учеником мистера Мюррея?.. Помню, о нем говорили, что он изучал право у кого-то. Ах да! Это те самые люди, которые нанесли нам визит на следующий день после бала у мистера Роусона и которые восхищались Синтией, не подозревая о том, что я – ее мать. Она и впрямь выглядела просто прекрасно в черном атласе… А у сына был искусственный глаз… Впрочем, он показался мне воспитанным и славным молодым человеком. Коулмэн! Да, именно так его звали.
Известия от Роджера они получили только спустя некоторое время после того, как Синтия вернулась из Лондона. Она выглядела посвежевшей, похорошевшей и прекрасно одетой, что объяснялось как ее отменным вкусом, так и щедростью ее кузин, переполненной впечатлениями от той яркой и беспечной жизни, к которой прикоснулась, но и нисколько не разочарованной тем, что оставила ее позади. Домой она привезла кучу всяких милых и изящных безделушек для Молли, шейную ленту, сработанную по последней моде, меховую горжетку, пару легких перчаток, украшенных вышивкой, чего Молли еще никогда не встречала, и множество прочих маленьких сувениров. Тем не менее у Молли сложилось впечатление, что Синтия переменилась в своем отношении к ней. Она знала, что никогда не пользовалась полным доверием Синтии, поскольку, несмотря на свою кажущуюся откровенность и даже наивность, Синтия все-таки была крайне сдержанной и скрытной особой. Она и сама признавала за собой подобный грех и часто подшучивала над ним в присутствии Молли, и та могла на собственном опыте убедиться в справедливости подобных утверждений своей подруги. Впрочем, Молли не забивала себе голову подобными вещами. Девушка прекрасно понимала, что многие из мыслей, приходящих ей в голову, она не рискнет озвучить никому, за исключением – если только они вновь окажутся вдвоем – своего отца. Она также понимала, что Синтия скрывает от нее не только мысли и чувства, но и факты. Но Молли тут же одергивала себя, догадываясь, что они скорее относились к борьбе за выживание, страданиям и материнскому небрежению и вообще могли быть настолько болезненными, что было бы лучше, если бы Синтия напрочь позабыла свои детские годы, вместо того чтобы лишний раз бередить прошлое, рассказывая о своих бедах и горестях. Так что Молли ощутила это новое отчуждение отнюдь не из-за отсутствия полного доверия между ними. Просто Синтия начала избегать, нежели искать ее общества; она отводила глаза, встретив прямой, серьезный и любящий взгляд Молли, и предпочитала не заговаривать о некоторых вещах, не настолько уж интересных, с точки зрения Молли, но словно бы лежащих на пути к тем темам, упоминания которых она сторонилась. Молли испытала нечто вроде горестного удовлетворения, подметив, что и манеры Синтии в отношении Роджера тоже изменились. Теперь она отзывалась о нем исключительно нежно, стала называть его не иначе как «бедный Роджер», и Молли сочла, что подруга имеет в виду болезнь, о которой он упомянул в своем последнем письме. Однажды утром в первую неделю после возвращения Синтии, перед самым выходом из дома, мистер Гибсон взбежал по лестнице в гостиную, уже в шляпе и сапогах, и поспешно положил перед Синтией раскрытую брошюру, ткнув пальцем в какой-то абзац, а затем быстро покинул комнату. Глаза его сверкали, и в них светилось веселое изумление, к которому примешивалось явное удовлетворение. Все это Молли подметила моментально, как и румянец, окрасивший щеки Синтии после того, как она прочла отмеченные строчки. Затем она отодвинула брошюру от себя, однако же не закрыв ее, и продолжила заниматься своими делами.