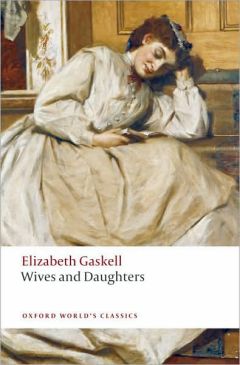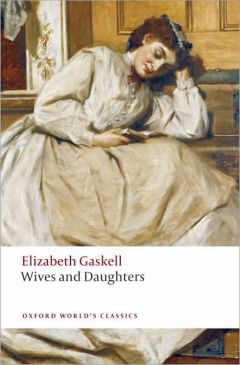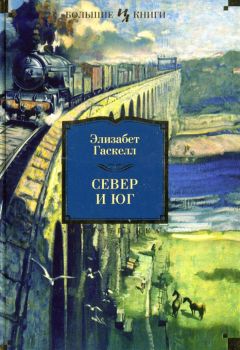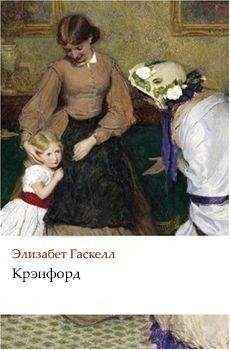Элизабет Гаскелл - Жены и дочери
Синтия зарделась. Она выглядела польщенной и довольной.
– Да, полагаю, так оно и есть. В то же самое время, Молли, боюсь, что он ждет от меня, что я всегда буду такой же милой и добропорядочной, какой он представляет меня сейчас, и всю оставшуюся жизнь мне придется ходить на цыпочках.
– Но ты ведь и вправду милая и добропорядочная, Синтия, – вставила Молли.
– Нет, отнюдь. В этом ты ошибаешься так же, как и он. И в один далеко не прекрасный день я попросту упаду в ваших глазах, как это случилось давеча с часами в холле, когда сломалась пружина.
– Думаю, что он будет любить тебя по-прежнему, несмотря ни на что, – сказала Молли.
– А ты? Останешься ли ты моей подругой, если… если выяснится, что я делала очень дурные вещи? Вспомнишь ли ты о том, как трудно было мне иногда поступать правильно? – При этих словах Синтия взяла Молли за руку. – Ради тебя и меня мы не станем говорить о маме, но ты уже должна была понять, что от нее не дождешься ни доброго совета, ни… Ох, Молли, ты даже не представляешь, как одиноко мне было тогда, когда более всего на свете я нуждалась в друзьях. Мама этого не знает и никогда не узнает, кем я могла бы стать, если бы попала в хорошие, мудрые руки. А вот я сама прекрасно отдаю себе в этом отчет, более того, – продолжала она, внезапно устыдившись столь бурного проявления собственных чувств, – я пытаюсь делать вид, будто мне все равно. И это хуже всего. Но беспокойство может довести меня до смерти, стоит мне только начать думать всерьез.
– Как бы мне хотелось помочь тебе или хотя бы понять, – проговорила Молли, придя в себя после минутной растерянности и ошеломления.
– Ты можешь мне помочь, – заявила Синтия, и манеры ее резко переменились. – Я могу отделывать шляпки и сооружать прически, но почему-то у меня никак не получается складывать платья и воротники так, как это проделывают твои ловкие маленькие пальчики. Поэтому не могла бы ты помочь мне уложить вещи? Это будет проявлением подлинной, осязаемой доброты, а не сентиментальным утешением глупых расстроенных чувств, которые, не исключено, существуют лишь в чьем-либо воображении.
В общем и целом именно те люди, кто остается, наиболее подвержены унынию при расставании; те же, кто уезжает, обнаруживают, что перемена места сглаживает горечь разлуки уже в первые ее часы. Но Молли, возвращаясь с отцом после того, как они посадили миссис Гибсон и Синтию на дилижанс «Ампайр», отбывший в Лондон, готова была пуститься в пляс прямо посреди улицы.
– Итак, папа! – объявила она. – На целую неделю ты поступаешь в полное мое распоряжение и должен меня слушаться.
– В таком случае не будь тираном. Ты летишь так, что я за тобой не поспеваю, у меня сбилось дыхание, и в спешке мы едва не разминулись с миссис Гуденоу.
Они перешли на другую сторону улицы, чтобы поговорить с миссис Гуденоу.
– Мы только что проводили мою жену с ее дочерью в Лондон. Миссис Гибсон уехала на целую неделю!
– Боже мой! Боже мой, в Лондон, и всего только на неделю! Если память мне не изменяет, одна только дорога занимает три дня! Должно быть, вам, мисс Молли, будет очень одиноко без вашей молодой спутницы!
– Да! – подтвердила Молли, внезапно решившая, что должна рассматривать сложившееся положение вещей именно в таком свете. – Я буду очень скучать по мисс Синтии.
– И вы, мистер Гибсон. Вы как будто снова стали вдовцом! Вы непременно должны заглянуть ко мне как-нибудь вечерком на чай. А уж мы постараемся развеселить и приободрить вас. Скажем, во вторник вас устроит?
Несмотря на то что Молли больно ущипнула его за руку, мистер Гибсон принял приглашение, чем заслужил явную благосклонность пожилой леди.
– Папа, как ты можешь уйти и испортить один из наших вечеров? У нас их было всего шесть, а теперь осталось только пять, а я так рассчитывала, что мы с тобой побудем вместе и займемся чем-нибудь.
– Чем именно?
– Ну, не знаю… Всем тем, что не выглядит утонченным и благовоспитанным, – отозвалась она, лукаво заглядывая отцу в лицо.
Глаза его весело блеснули, но в остальном выражение его лица оставалось совершенно серьезным.
– Тебе не удастся подкупить меня. Ценой тяжких усилий я сумел достичь некоторых высот в благовоспитанной утонченности и потому не позволю вновь стащить себя вниз.
– Еще как позволишь, папочка. На ленч мы с тобой каждый день будем есть хлеб с сыром. А по вечерам, если ты останешься дома, будешь сидеть в гостиной в комнатных тапочках. А еще, папочка, как ты думаешь, мне можно будет покататься на Норе Крейне? Я могу надеть свою старую серую юбку и буду выглядеть в ней вполне пристойно.
– А где мы возьмем женское седло?
– Да уж, старое никак не налезет на эту крупную ирландскую кобылу. Но я не привередлива, папа. Думаю, что как-нибудь справлюсь.
– Благодарю покорно. Но я не намерен снова превращаться в дикаря. Быть может, у меня испорченный вкус, но я хочу видеть свою дочь сидящей на лошади так, как подобает юной леди.
– Подумай о том, что мы могли бы вместе скакать по лесным тропинкам. Кстати, уже зацвел шиповник, а вместе с ним и жимолость, и разные травы… А еще мне очень хочется взглянуть на ферму Мерримана! Папа, позволь мне хоть разочек проехаться с тобой! Пожалуйста! Я уверена, что это можно устроить.
И все действительно устроилось. Каким-то непостижимым образом сбылись все желания Молли, и лишь одно пятнышко омрачило эту счастливую и беззаботную неделю каникул и общения с отцом. Их наперебой приглашали на чай. В каком-то смысле они походили на жениха с невестой, поскольку поздние ужины, которые миссис Гибсон ввела в обычай в своем доме, вступали в прямое противоречие с традицией приватного чаепития в Холлингфорде. Как можно приглашать людей на чай в шесть часов, если они в это время ужинают? Как быть, если они отказываются от кексов и сандвичей в половине девятого, и как заставить других людей, умирающих от голода, совершить столь вульгарный поступок под взглядами их спокойных и полных презрения глаз? И потому на Гибсонов буквально обрушился вал приглашений на чайные вечеринки в Холлингфорде. Миссис Гибсон, поставившая себе целью любой ценой пробиться в «местное высшее общество», хладнокровно воспринимала тот факт, что столь незначительные мероприятия обходят ее вниманием, а вот Молли явно скучала по домашней атмосфере этих вечеров, на которые она ходила с незапамятных времен. И хотя, как только им доставляли очередное, сложенное втрое приглашение, Молли начинала ворчать из-за утраты очередного восхитительного tête-à-tête с отцом, на самом деле она была рада возобновить общение со старыми друзьями. Мисс Браунинг и мисс Феба особенно преуспели в том, чтобы скрасить ее одиночество. Будь на то их воля, она бы ужинала у них каждый день, и, дабы они не почувствовали себя уязвленными оттого, что она отклоняет их приглашения, ей приходилось очень часто заглядывать к ним на огонек. За неделю своего отсутствия миссис Гибсон дважды написала супругу. Известие об этом доставило большое удовлетворение обеим мисс Браунинг, которые в последние месяцы старательно предпочитали держаться подальше от дома, в котором, как они полагали, их присутствие стало нежелательным. Зимними вечерами они частенько обсуждали домашние дела Гибсонов, и, поскольку других фактов, кроме собственных предположений, у них не было, эта тема представлялась им бесконечной, так как высказывать новые догадки обе мисс Браунинг могли хоть каждый день. Одной из самых интересных была тема о том, как вообще мистер и миссис Гибсон уживаются друг с другом и можно ли считать миссис Гибсон экстравагантной особой. Но два письма за неделю продемонстрировали наличие именно той супружеской привязанности, которая считалась подобающей в те времена. Причем отнюдь не чрезмерной – при стоимости почтового отправления в одиннадцать с половиной пенсов. А вот третье письмо было бы уже расточительством. Сестры обменялись одобрительными кивками, когда Молли упомянула о втором письме, которое прибыло в Холлингфорд за день до возвращения миссис Гибсон. Они сочли, что два письма доказывают наличие добрых чувств и должного понимания в семействе Гибсонов: большее их количество свидетельствовало бы об экстравагантности, а всего одно означало бы простое исполнение супружеского долга. Мисс Браунинг и мисс Феба, впрочем, даже разошлись во мнениях относительно того, кому должно быть адресовано второе письмо. С точки зрения супружеской верности, было бы вполне разумно написать оба раза мистеру Гибсону; тем не менее, с другой стороны, было бы очень славно, если бы свою долю внимания получила и Молли.
– Ты сказала, дорогуша, что вы получили и второе письмо, – произнесла мисс Браунинг и поинтересовалась: – Полагаю, что на этот раз миссис Гибсон написала тебе?
– Оно было большим, и одну его половину Синтия адресовала мне, а все остальное – папе.