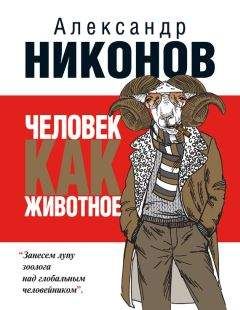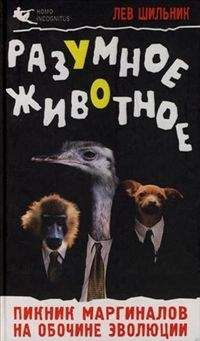Лилия Фонсека - Современная африканская новелла
Такие сны не сулили ничего хорошего. Они предвещали смерть. Как можно верить в сны? Он засмеялся. Он открыл окно, все было окутано туманом. Было чудесное июльское утро в его родной Лимуку. Холмы, горные хребты, долины и плоскогорья, обступившие деревню, — все потерялось в тумане. Все казалось непривычным. В этом было какое-то особенное очарование. Их долина — местность контрастов, и в разное время она выглядит совсем по-разному. Эта земля радовала Джона, и ему хотелось прикоснуться к земле, обнять ее, лечь на траву; а порой ему становились противны и пыль, и жаркое солнце, и ухабистые дороги. Было бы все дело только в этой пыли, тумане, солнце, дожде — он бы не возражал. Он хотел бы жить здесь. Уж конечно, он не хотел бы умереть и быть похороненным где-нибудь в другом месте, если бы не люди в своих обезображенных собственными пороками хижинах.
Разговор с Вамуху вновь всплыл в памяти и парализовал его. Он сбросил одеяло и вышел на улицу. Сегодня они с отцом должны сделать закупки к отъезду. Вспомнив об отце, он опять почувствовал робость, которая вселилась в него в последние дни. От этой робости и такие натянутые отношения с отцом. Натянутые и готовые порваться. Нет, этого не должно быть… Он отбросил кощунственную мысль.
Да, сегодня день расплаты. Он вздрогнул. Надо было случиться этому именно теперь, когда он собирается уехать в Макерере.
Они отправились за покупками. Весь день он молча ходил за отцом из лавки в лавку, где они покупали необходимые в дорогу вещи у долговязых и задумчивых индийцев. И весь день Джон размышлял, почему он так боится отца. Он вырос в страхе перед ним, и трепет охватывал его, когда отец говорил или приказывал. И не его одного охватывал трепет.
Стэнли боялись все.
Он читал проповеди с большой страстью. Он истово старался не подпустить паству к вратам ада. В самые трудные времена он продолжал проповедовать, порицать, осуждать и проклинать. Каждый, кто не был спасен, был осужден на погибель. Кроме того, Стэнли был известен как строгий и неукоснительный блюститель морали, и, может быть, в обиходной жизни слишком строгой. «Фарисейской?» — подумалось Джону. Может быть… Но простым прихожанам это было невдомек. Если кто-нибудь из пожилых верующих нарушал правила, он изгонялся из общины или совсем отлучался от церкви. Молодые мужчина и женщина могли быть отлучены, если их замечали стоящими рядом так, «что это порочило церковь и нормы поведения, данные им от бога». Как будто это не одно и то же. И многие парни пытались служить двум божествам, встречаясь ночью со своими девушками, а днем посещая церковь. Выбирать было нечего — церковь не покинешь.
Стэнли добровольно был духовным отцом всем людям в деревне. Для этого необходимо было быть строгим к себе. И поэтому он требовал от членов своей семьи, чтобы они были примером для остальных. И главным образом поэтому он хотел, чтобы его сын учился дальше. Однако было в его истовой вере и нечто другое. Он сам согрешил до женитьбы. Стэнли сам втайне был сыном тех противоречий, из которых была соткана нынешняя жизнь его деревни.
Покупки не заняли много времени. Отец не нарушал безмолвия, установившегося между ними, и ни словом, ни намеком не упомянул о прошедшей ночи. Они пришли домой, и Джон думал, что еще день прошел, когда отец позвал его.
— Джон.
— Да, отец.
— Почему ты не был вчера на молитве?
— Я забыл…
— Где ты был вечером?
Почему ты спрашиваешь меня? Какое право ты имеешь допрашивать меня? Когда-нибудь я восстану против тебя! Но очень быстро Джон почувствовал, что миг восстания утрачен, если только что-нибудь не подтолкнет его. Для этого нужен был человек, обладавший чем-то, чего был лишен Джон.
— Я, я, я хочу сказать, я был…
— Ты не должен ложиться без молитвы. Сегодня я жду тебя.
— Я приду.
Джон вышел успокоенный: отец не знает.
Вечером он украдкой, как и в прошлый раз, оделся и нетвердыми шагами направился к роковому месту. Ночь расплаты наступила. А он так ничего и не придумал. После этой ночи все будут знать. Даже преподобный Карстон узнает. Он вспомнил преподобного Карстона и последние слова, которыми тот благословил его. Нет! Он не хотел вспоминать. К чему? И все же слова всплыли в памяти. Они словно висели в воздухе и светили во мраке его души. «Ты идешь в мир. Мир ждет, подобно алчущему льву, чтобы проглотить тебя. Поэтому говорю: берегись мира. Иисус же сказал: стойко держись…» Его тело пронзила настоящая боль от этих слов. Преподобный Карстон предвидел его падение. Да! Он, Джон, будет низвергнут прямо в открытые его ради врата ада. Да! Он видел все это предельно ясно, и все люди увидят, и будут сторониться его, и будут бросать на него косые взгляды. Воображение Джона безмерно увеличивало меру его падения с вершин благодати. Боязнь людей и последствий заставила его с диким страхом ждать самого худшего…
Он придумывал себе наказания одно пуще другого. А когда пытался искать выхода, в голову лезли одни несусветные фантазии. Он просто не мог собраться с мыслями. И потому, что он не мог этого сделать, и потому, что боялся отца и людей, и потому, что не знал, как он в самом деле относится к Вамуху, он пришел к условленному месту, совершенно не зная, что он скажет. Все казалось ему роковым. И он сказал:
— Слушай, Вамуху. Разреши мне дать тебе деньги!.. Ты можешь тогда сказать, что виноват кто-то другой. Сотни девушек делали так… И тогда этот человек женится на тебе. Но не я. Ты же знаешь…
— Ты в своем уме?
— Я дам тебе двести шиллингов.
— Нет.
— Триста.
— Нет! — Она почти кричала. Он вконец измучил ее.
— Четыреста… пятьсот… шестьсот! — Джон начал спокойно, но теперь его голос дрожал. Отчаяние затопило его. Понимал ли он, о чем говорит? Он говорил быстро, не переводя дыхания, он спешил сказать. Цифры быстро сменяли друг друга — девять тысяч… десять… двадцать тысяч… Он потерял разум. В темноте он подскочил к Вамуху, положил ей руку на плечи и продолжал свистящим шепотом называть числа. Где-то внутри поднимался и не отпускал страх, жуткий ужас перед отцом, перед людьми в деревне. Этот страх слепил его разум. Он начал свирепо трясти девушку, а услужливый разум шептал ему, что он ласкает ее. Да, он совсем не в себе… Сумма дошла до пятидесяти тысяч шиллингов и все время увеличивалась. Вамуху была в ужасе. Она вырвалась из его объятий, объятий сумасшедшего и образованного сына фанатика, и побежала. Он помчался следом, удерживая ее и взывая к ней всеми ласковыми словами. И в то же время он тряс ее, тряс изо всех сил. И пытался тут же обнять ее, прижать к себе… Она вдруг вскрикнула и упала на землю. Он в растерянности оцепенел, потом наклонился над ней.
Через минуту, поднявшись, он весь дрожал, как лист дерева под порывами ветра…
Завтра все узнают, что он породил и он убил…
Леонард КИБЕРА
(Кения)
ЧУЖОЙ
Перевод с английского И. Архангельской
Он как с неба свалился, появился неведомо откуда. Никто не знал, надолго ли он к нам и куда эта подозрительная личность направится дальше, если вообще решит отсюда убраться. Вот так он и явился, нежданно-негаданно. Одно было известно, что он без всяких церемоний разбил свою палатку в самом что ни на есть центре нашего селения. Наверно, он был из тех, что не любят долгих объяснений, пробурчат что-то себе под нос, и все тут.
Да, уж обходительностью он не отличался.
Пришлось нам изгнать этого человека. Не могли мы ни племени его определить, ни роду. Не могли пришпилить к нему никакой опознавательный знак. У этого гордеца даже удостоверения личности не было, и все это ему сошло с рук. А времена тогда были тяжкие — чрезвычайное положение, без документов шагу не шагнуть. На каждом доме был номер, и все жители обязаны были иметь при себе голубое удостоверение, которое бы они с превеликим удовольствием выбросили, да только не решались, потому что с удостоверением человек как-никак все же гулял на свободе, а окажись он без удостоверения, его бы немедленно арестовали, а дальше уж все зависело от охранников: в плохом они настроении или в хорошем, понравится он им или не понравится. От этого зависело, отпустят его или отправят в концлагерь в Маньяни. Конечно, он мог и откупиться или поговорить с ними по-английски, только говорить надо было очень осторожно, как бы охранники не подумали, что человек этот хвалится своей образованностью. Не дай бог их раздразнить — тогда они совсем зверели. С ружьем Ее Величества в руке охранник был неумолим, и черное лицо редко взывало к его добрым чувствам. Дело еще более осложнялось, если ты был не здешний. Потому что, если ты местный, тогда хоть можно успеть шепнуть на ухо охраннику номер твоего дома или чье-то имя. Можно было и приврать (тут уж было не до щепетильности!), и попытаться обмануть охранника, в конце концов тот мог оказаться новичком и не знать всех и каждого.