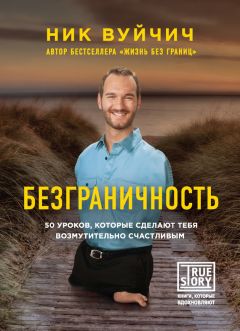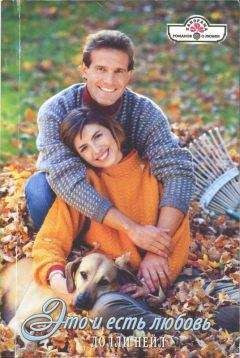Евгений Суровцев - Ганская новелла
— Как насчет филе из телятины? Или тушеной печени ягненка? Нет, лучше телячий эскалоп с луком и жареным картофелем.
— Зиригу, ты для кого готовить собираешься?
— Для вас, масса.
— Но я этого не ем.
— Все белые это едят.
— Зиригу, повторяю, я не белый. И если ты не перестанешь меня так называть, я соберу вещи и уеду.
О боже мой, да есть ли на этой земле уголок, где хоть немного можно забыться? Господи… даже испарина выступила, пот так и течет…
— Что с вами, масса? Вы весь мокрый.
— Здесь с самого утра жара.
— Позволите открыть окна? О господи!
— Масса, умоляю, вы так не делайте! Я-то знаю, здесь все как белые едят. Я уж пятнадцать лет для господ готовлю. Для министров, партийных начальников, что сюда приезжают, офицеров… И вам нужно есть, что и они, — еду белых.
— Зиригу, а что-нибудь из нашей еды ты можешь приготовить? На рынке наверняка есть все необходимое.
— Но я не знаю, что готовят там, откуда вы родом.
— А здесь, у вас, что готовят? Вот это и приготовь.
— Не умею, масса.
— И ты все эти годы проработал поваром?!
— Да. И свою работу знаю, масса, не губите! У меня уж голова поседела, другой работы мне не найти. Кому я нужен? Я знаю свою работу, масса, я хорошо готовлю то, что едят белые. Поверьте!
— Вот в этом-то и дело. Послушай. Ради бога, перестань думать, что я тебе яму рою. Я об этом и не помышлял. Но я, кажется, начинаю понимать. Ты учился и получил квалификацию повара для европейцев. А готовить африканские блюда не умеешь, потому что сам африканец и к тому же мужчина, а кухня у нас обычно — дело женское. Другое дело — для белых готовить; это вполне мужская работа, а не просто возня на кухне.
— Масса, бог свидетель, я свою работу знаю.
— Ну конечно! Как африканец и женатый человек, то есть мужчина, ты, разумеется, готовить не будешь. А как чернокожий, ты считаешь себя слугой белого человека, а вовсе не мужчиной, и возиться на кухне для тебя не зазорно.
— Масса, масса. Вы меня считаете… женщиной?! Но это несправедливо, я не женщина, масса, избави боже!
— Ах, Зиригу. Я просто стараюсь понять. И, конечно же, не считаю тебя женщиной, бог тому свидетель. Мы с тобой скоро обо всем потолкуем.
— Только не называйте меня женщиной, масса.
— Нет-нет, не буду.
— Послушай, Зиригу, а твоя жена умеет готовить африканскую еду?
— А как же. Да вот только не знает, что у вас едят.
— Ну а здешнюю?
— Конечно!
— Очень хорошо. Тогда давай знаешь как сделаем? Посчитай мне как за обычный ужин и попроси жену включить меня сегодня вечером в число едоков за вашим столом, ладно?
— Что-о-о? Вы говорите… Что-что?
— Я говорю, не может твоя хозяйка покормить меня сегодня ужином?
— Вы, должно, шутите, масса.
— Нет, не шучу.
— Нет? Господи, вы будете есть туо[4]?
— А почему бы нет? Ем же я дома банка[5]. Практически то же самое. Только одно варят из риса, другое — из маиса. Из муки, крупы или чего-там-еще?
— Масса, а коли с вами случится что?
— Что же со мной может случиться?
— С животом-то кабы чего не вышло.
— Ты что же, маешься животом каждый раз, как ешь приготовленную твоей женой пищу? Что ты такое говоришь? А в крайнем случае, я же врач, ты знаешь.
— Знаю, мой молодой масса. Бывают, значит, большие люди, а вроде как мы… Так вы хотите есть туо?
— Да.
— Ну, как знаете.
— Се-ту! Сету-у-у! Где эта женщина? Сету-у-у!
— Что такое, Зиригу? Я мылась. Ты ведь знаешь, что я собираюсь к доктору.
— Послушай, жена моя. Я в жизни такого не слыхивал.
— Ну хорошо, но объясни ты толком, о чем речь-то!
— Эх, Сету-у… С чего бы начать-то?
— Может, до вечера подождешь? А то мне…
— Нет… нет… нет! Хм, Сету, молодой господин говорит, что не будет сегодня ужинать.
— И это все?
— Нет-нет. Он говорит, что будет есть с нами, то, что ты приготовишь.
— Ка-ак? Аллах, Зиригу, не может быть!
— Вон он там сидит, апельсин свой ест. Пойди спроси.
— О Аллах! Зиригу, ты думаешь, у этого парня с головой все в порядке?
— Не знаю. Нет, правда, Сету, не знаю. Но глаза у него вроде нормальные. Так что если даже он и тронулся умом, то еще не очень сильно. Хотя иногда он говорит странные вещи. Не знаю, не знаю. Да, он сказал, что я могу вписать туо в его счет. Господи, я уж скоро двадцать лет здесь управляющим и поваром, но чтобы такое… Да я и не знаю, сколько это стоит.
— Времена меняются, муж мой.
— Да, жена моя, твоя правда. Тогда уж после доктора ты на рынок сходи, овощей там хороших, свежей зелени купи, окро[6]…
— Теперь уж ты лучше помолчи, Зиригу. Ты еще меня учить будешь, что на рынке покупать? Я уж как-нибудь сама разберусь, это дело женское.
— Ну ладно, Сету, ладно.
— Масса…
— Зиригу, я же просил тебя не называть меня так.
— Но вы же мой господин!
— Ничего подобного. Мне и шести еще не было, а ты уж воевал. Как же я могу быть твоим господином? А потом, это государственный дом отдыха, а не мой. Даже на работу тебя не я нанимал. Так что я тебе ни господин, ни начальник.
— Но другие господа ничего не говорят, когда я их так называю.
— Ну и черт с ними. Меня же зовут Кобина, а не «масса».
— Ко-би-на… Ко… Масса, не сердитесь, я не могу, просто не могу.
— Очень жаль. Значит, мне придется уехать раньше, чем хотелось бы.
— Я в город еду, по хозяйству надо кой-чего купить, яиц там, мыла… Может, вам надо чего?
— Апельсины, фруктов побольше.
— А вино?
— Да нет же! Хотя, может быть, пито[7]?
— Как пожелаете, масса! Но неужели вы будете пить пито?
— Хочу попробовать. Здесь, говорят, настоящий, свежий можно найти. Никогда не пробовал. Это вкусно? Не очень крепко?
— Да. Очень вкусно. И не крепко совсем. Ну, может, чуточку.
Что тут можно сказать? Если человек обладает даром надо бы ему научиться и из прошлого извлекать уроки. Все эти свежие ветры… Им бы выдуть вековые предрассудки из наших душ, проветрить наши головы, совать пелену с наших глаз. Но ничего похожего не происходит. Это всегда было трудно сделать. В наши дни, как в прежние времена, есть еще исковерканные души и в городах, и в непроходимых джунглях, и на побережье. И неправы были эти революционные поэты… Но Зиригу — хороший человек. И жена его. Не хуже нас с вами. И все у них в порядке. Надеюсь, что в один прекрасный день и они поймут, что все люди одинаковы.
Помню однажды, когда я был совсем еще маленьким, то на каникулы ездил к няне в деревню. Я прямо-таки увязался за ней следом. Как сейчас слышу ее слова: «Нет-нет, мой дорогой школьник, не стоит тебе со мной ехать, я-то привычная, а как с тобой случится что, кто тогда отвечать будет?» Но я настоял на своем. Никогда не забуду того впечатления, что произвели на меня тамошние запахи. Необычайные, прекрасные, неизведанные ни до, ни после. Запахи зелени, влажной земли и еще чего-то неповторимого, пьянящего. Как отличается этот божественный аромат от запаха ружейного выстрела или человеческой крови! На няниной ферме все благоухало свежестью. Каких только овощей там не было! Не прошло и часа после нашего приезда, а я уже буквально умирал с голоду. Няня поворчала немного — сначала, дескать, и поработать бы не мешало, — пошарила под кустом и извлекла на свет ямс огромной величины. Это был просто гигант. Конечно, когда сам ты мал, окружающий мир имеет свойство вырастать в твоих глазах до невообразимых размеров. Но этот ямс действительно был очень большим. Няня достала банку из-под керосина — такие за гроши продавали на рынке — и налила в нее воды. При виде этого великана у меня потекли слюнки. Она сказала, что приготовит небольшой кусочек для меня, есть ей еще не хотелось, а ямс хорош горячий. Я уже знал, что хороший ямс внутри белый или желтоватый. Но когда нянюшка отрезала кусок, наш гигант оказался коричневым. Она отрезала еще. То же самое. Еще кусочек и еще — все напрасно. Няня остановилась, посмотрела на него и сказала: «Что же ты весь-то испортился? Не мог уж оставить кусочек для моего молодого господина?» Но я не мог с этим примириться. Надеялся, что не все еще потеряно. Тогда она перевернула плод и разрезала поперек. Он был мягким и коричневым. Я бросился на землю и зарыдал. Няня приготовила специально для меня кусок ямса из кладовки, но я не стал есть. И только когда она сварила немного и для себя, а я был уже слишком голоден, чтобы отказываться от еды, ей удалось меня уговорить… Никогда не забуду этот ямс. Что разрушило, разъело всю его сердцевину без остатка? И все же старый ямс должен был сгнить, чтобы на его месте мог вырасти новый. Где же то поле, где кто-то неведомый будет сажать ростки новой жизни? Безусловно, нам это не дано — мы слишком вожделеем к вину, куреву, женщинам и с упоением пишем бессмысленные статьи о чужих деяниях.