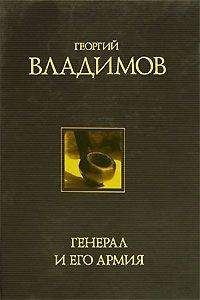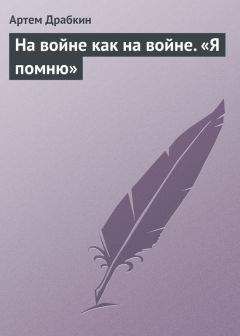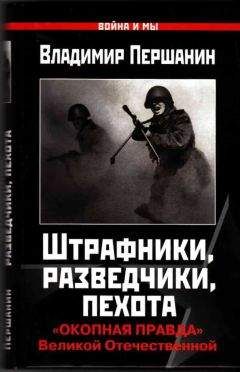Анна Немзер - Плен
— Нет, ты послушай, послушай меня. Ты всегда говоришь гиль. Гладиолусную глупость. А ты вот просто послушай. Я вижу зачем быть — ну как это — цель вижу, и иду — как Цинциннат, как Цицианов. Наперерез-наперекор! Тогда — зачем простить? Зачем тогда жалость? Жабья дурь, я тебе говорю! И бабья тоже. Видишь цель — пошел! Без гордости, без жалости! Ни шагу назад! Приказ 227 слыхала?
И тут память играет с ней адскую шутку.
* * *…в каком-то медицинском кабинетике. Окна, белым замазанные до половины. Солнышко. Их четверо — сильно беременная тетка в белом халате, большеглазый перепуганный лейтенантик, убийца и она сама. У нее какая-то странная тяжесть внутри, перенасыщение. Солнышко слепит. Вдалеке кто-то жарит на баяне, гадость какую-то, яблочко. У нее и у лейтенантика связаны руки, беременная у убийцы под прицелом.
Отпусти меня, отпусти, — беззвучно молит она, — отпусти меня, и я никогда больше ни о чем не попрошу и я больше никогда так не буду.
Этот, с наганом, не слышит ее — он в каком-то вздорном восторге говорит про приказ 227 — «Ни шагу назад», про дезертиров-мерзавцев, про жар огня — и тогда она в ярости швыряет трубку и отчаянно плачет. Плача, она идет в ванную, причесывается, потом выбирает одежду, телефон трезвонит, но ей совершенно плевать, пусть хоть взорвется; плача, переодевается и, уже успокаиваясь, курит. На улице, говорили в новостях, +17, она накидывает куртку, проверяет ключи и мобильник и захлопывает за собой дверь.
* * *На празднование Надиного восьмидесятипятилетия мы с мамой и бабушкой приехали с опозданием. Поэтому мы не видели самого главного — ее отчаянного восхитительного изумления, когда она, думающая, что приехала отпустить Диму с женой в гости, перешагнула порог комнаты и увидела огромный стол и всех-всех-всех, кричащих ей «С днем рождения!» Поэтому я только могу представлять себе, как она сияла, как чуть не плакала, как вглядывалась в огромную разновозрастную толпу и постепенно всех узнавала: вот племянники — Дима с женой и детьми и огромным черномордым псом, вот внучатые — Сережа, какой милый, пришел, дети друзей, внуки друзей… неуемная старуха Бойцова с семейством, однополчане, с работы, из газеты, из издательства… Это была действительно блестящая Димина идея — вытащить ее обманом на Кировскую и устроить сюрприз.
И вот она сидит во главе стола с маленькой рюмочкой коньяка, со стаканом тоника — и, улыбаясь, щурится на свет; книги, книги, желтые карты на стенах, черные комодики, драный абажур… Она немножко растрепанная и пока еще немножко растерянная и растроганная, но уже стремительно обретает способность ехидничать.
Мы не застали Геликова тоста, но я знаю его наизусть: он говорил о том, что он знавал Надю аж под другим именем, когда от ее нелепого полного имени Надина (ох, Гелик, опять ты?! как тебе не надоест!) вдруг образовалось дурацкое неправильное уменьшительное; что они с Надей связаны страшным общим испытанием. Он вспоминал о том, как они, потерявшие друг друга после войны, случайно встретились на Гоголевском, узнали друг друга, он притащил ее на Кировскую, и с тех пор они созваниваются каждый день. Он говорил, что Надя — один из самых мужественных и романтических людей в его жизни. Что ей довелось пережить столько потерь, сколько мало кому под силу (ох, Гелик…), но только она могла сохранить такую силу, такую… (тут он запинается, и Надя мгновенно отвешивает ему какую-то искрометную едкость — взрыв хохота, снимающий патетику). Что Надя лучший друг — обратите, между прочим, внимание — с ней все всегда на «ты»! Что она — с одной стороны, человек поразительного репортерского зрения, пронзительного, в корень — и пусть она много лет назад ушла из журналистики… вот вам, кстати, пример удивительной Надиной романтической бескомпромиссности: не смогла писать, что хотела — и ушла! Но с другой стороны, у нее дар редкого писательского воображения — и этот дар видеть и переживать она пронесла через всю жизнь (Ну уж и через всю!)…
Но в этот момент мы своим звонком прерываем тост, и Надя с рюмочкой в руке бежит нас встречать, как — еще гости?! Прекрасно. Замечательно.
Часть 3. Кавказский плен
Они тогда уже, конечно, не так голодали, как на Днепре, но все равно все равно все равно. Что-то снилось мучительное и манящее — сливочная помадка и сливочное масло. У них даже уговор был, на весь их состав — ни слова про еду. Кто чего до войны едал — молчи. И вот Джанибекяну пришла эта феноменальная посылка — сорок штук огромных гранатов. Они столпились вокруг ящика. Темно-розовые бомбы на холщовой тряпке.
— Есть вы это не сможете, — улыбаясь, сказал тощий Джан. — Сейчас я вам покажу, что делать.
Они давили их руками, цедили через тряпку, доливали спиртом — и ничего слаще с тех пор не знали. Сережа и после войны никогда ничего другого не пил, его не соблазняли жалкие роскошные КВВК; он бодяжил спирт гранатовым соком из пузатой банки, в пропорции один к одному. Даже когда моя бабушка защищала диссертацию в шестьдесят-каком-то году и на банкете учинили дебош-коктейль и все страшно отравились этим кромешным пойлом (туда пошли все спиртные напитки со стола, огуречный рассол, дюшес и содержимое трех пепельниц) — даже тогда один человек остался в живых — Сережа, потому что пил свой гранатовый спирт.
Потому что — как же они пили тогда этот гранатовый спирт — двадцать мальчиков, одуревших от голода и своей победы; двадцать тонкошеих идиотиков. Крепче других оказался Джанибекян — даром что он из них был самый тощий.
— Волик, — тогда его Сережа спросил, — а почему тебя так странно зовут?
* * *В 40-м году мама уже перестала ждать, что папа вернется, он сидел уже пять лет, и вот этим летом она перестала говорить Волику «Это папа решит», а Арчилу, маленькому, больше не рассказывала сказки про богатыря и Мормышку. Мальчики поняли, что так и надо. Было ясно, что старший будет теперь глава семьи — и он бы и рад, но мама умоляла прежде закончить школу. А ее, конечно, никуда не брали на работу, и она по ночам шепотом говорила сыну: «Ты понимаешь, милый, так жалко образования, я же хороший врач». Маленький тогда, к счастью, вообще ничего не соображал. Было лето, он целыми днями шарился по Важа Пшавела с такими же мелкими, и тетка Гурия кричала им из окна, чтобы они шли есть варенье. И звала их шантрапой, а Арчил потом требовал, чтобы Волик ему это объяснил. Спасибо тетке — маленький хоть что-то ел, а старший все сидел дома и учился-учился, чтобы сдать экзамены экстерном и скорее-скорее стать главой семьи, и вообще носа из дома не казал, а дома-то с едой было не очень. А мама бегала по всему Тбилиси, искала-искала работу, и никуда ее не брали. Волик с мамой отощали за это лето, как собаки, а Арчил отъелся вареньем с хлебом и стал кругленький.
Потом помер провизор в аптеке на Гришашвили, которая рядом с банями; тетка Гурия нажала на все педали, и маму чудом туда взяли. Тетке Гурии пришлось как следует наврать, чтобы уговорить заведующего: она сказала, что мама с папой уже почти развелись, что и брак их — не брак, а одно недоразумение — да где вы видели, чтобы грузин с армянкой вместе мирно жили? Так что этот ваш грузин репрессированный ей и не муж, считай. И фамилия у ней ее собственная, а не мужняя. — Но у детей-то, у детей ее — какая фамилия?! Ты вообще понимаешь — что у них за фамилия?! — кричал заведущий. — Тетка-дипломат поклялась, что фамилию детям скоро сменят. Так Тамару Джанибекян приняли на работу с испытательным сроком без ограничений — то есть до первой малейшей провинности.
* * *Мама была на новой работе, Волик учил теплоту, а Арчил принес домой десять бракованных бюстиков Сталина, с перекошенным носом, со смазанным глазом, с острым ушком, как у фавна. — Ачико, это что? — побелев, спросил Волик. — Во чего есть! — гордо ответил Арчил. — Они там валяются!
Натрескавшись теткиного варенья, вся эта мелкая гоп-компания полезла на задворки гипсовой фабрики, где была гигантская помойка. Туда сбрасывали опасный фабричный брак. Пятилетние пацаны икали и хрюкали, выискивали самых мерзких уродцев и очень весело играли — и вроде даже никто их не видел, но только все пошли по домам с пустыми руками, а маленький Арчил, пыхтя, притащил десять бюстиков с собой — похвастаться — смотри, Воля, рожа какая, а? Смотри, глаза нет! А этот какой урод, гляди!!
— Заткнись!! — заорал Волик, понимая, что они погибли все. — Ты сам урод!! Нельзя! Нельзя!! — маленький выпятил губу и приготовился реветь — Г…г…говорить слово «рожа» нельзя!! — выдохнул и сам чуть не заревел — даром, что старший брат, глава семьи и здоровый парень. А что делать-то?
Мама не плакала, мама окаменела. Это был конец. — Давай в сундук засунем? — тихо предлагал Волик. — Увидят, — монотонно отвечала мама. — С обыском придут и увидят. — Давай на помойку? — Там сумасшедший Гия шарится каждую ночь. — Давай закопаем? — Собаки разроют.