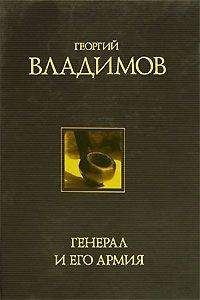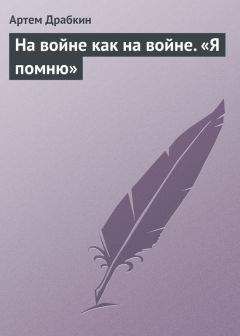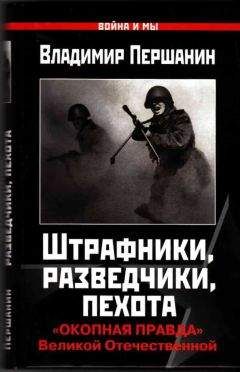Анна Немзер - Плен
А с сапогами он, конечно, схалтурил. Впрочем, кто знает, был ли он когда-нибудь сапожником — может, он выше подмастерья и не поднимался никогда. Один сапог был куда ни шло. А второй мешковат немного, нога в нем болталась. И вот сейчас… Сапог чавкал, засасываемый мокрой землей — и то и дело скособочивался на ноге, подошва подворачивалась, Гелик поскальзывался и один раз полетел плашмя в грязь — грудью, мордой, всем; то и дело приходилось останавливаться и всовывать ногу поглубже, даже чертыхаться уже сил не было. А Нина все тянула его за руку и умоляла бежать побыстрее, ждала, пока он справится с болотом, все казалось — сейчас он как рванет и они наконец спасутся, а тут опять.
И, не вскрикнув, упала. Подлый сапог хлюпнул и завяз в глине окончательно. Он выдернул ногу и, не удержавшись, ступил в самую грязь, охнул, схватился за голенище, кое-как вытащил и побежал к ней, припадая на босую ногу. Она лежала как будто поперек их пути — и очень удобно устроилась — ему показалось в первый момент. «Обуйся!» — он смотрел на нее и заматывал мокрые обмотки, никогда этого путем не умел. Вот как это человек так сразу начинает умирать? Он не теряет сознания, он мыслит холодно и трезво, он немного раздражен и знает, что сейчас умрет. Куда она была ранена? Грудь, живот? Пушкин был ранен в живот, сейчас бы спасли, а тогда — дни мучений и все предопределено. Чехов говорил, что он бы Пушкина спас — даже Чехов в его-то время! А сейчас… Только она белела на глазах и говорила все труднее. Мучительно двигала губами, стараясь произносить слова отчетливее. Губы она ободрала днем, так сейчас эти губы в мелких ранках что-то ему силились сказать такое. А, да, «возьми часы» она говорила. Пошлее сцены не придумаешь: он все повторял: «Ну что ты?», а она раздраженно шептала: «Гель, возьми, забери их и иди уже, ну быстро, ну!» Что это было, позвоночник? Как это может быть так сразу, единым духом — только что она была совсем-совсем его, а сейчас лежит — и ее страшно сердит — последнее, что она еще чувствует — ее страшно мучает его тупость. «Гель, бери быстро и уходи, ну! Ну!» Он сунул часы в карман, сел на корточки и попытался ее приподнять, но она замычала с мукой, и он скорей опустил ее обратно — под ней все было мокро и черно. Тогда он осторожно укрыл ее своей шинелью и пошел. Шел, не чувствуя холода и остро жалея об одном — чего он стеснялся, подумаешь, пулеметчичек. А потом его остановили.
Москва, Новый год 44/45Газету на этот Новый год не делали, чего ее делать без Бутягина и без Митьки. Все ходили как пришибленные — давно уже все поняли, отплакали свое и больше не ждали, но тут пришла на Митьку затерявшаяся похоронка — как же их всех шарахнуло. Капитоше запретили реветь, и она весь день ходила и шмыгала носом; и от этого чертова шмыганья вообще не было никакой жизни. А тут Новый год.
Сели за стол — смешно сказать: Мара с Колей, Эрлих — очень гордый, еще на фронте написал две части «Эрлианы», третья на подходе, Лиза Комлева с какой-то девочкой-соседкой, Витюшка, ну и они: Гелик, Аля, папа и Капитоша. Десять человек — обычно на Новый год меньше сорока не бывало. Вроде все то же: круглый стол, отстиранная скатерть (Капитоша постаралась, бедная), тень от абажура — косолапым паучком, рядом с каждой тарелкой — ампула спирта. Два черных комода с барахлишком, книги, книги по всем стенам, статуэтки, вазы, пожелтевшие карты на стенах. Поленова перекосило при первой же московской бомбежке, и папа почему-то не давал его поправить — боялся, что он вообще сорвется. Но только десять человек за столом на Кировской на Новый год, кому рассказать…
От этого спирта всех так развезло… Хуже всех было Витюшке — он тосковал по Мите, а за слезами плескалась отчаянная сволочная надеждочка — а вдруг? Ну вдруг?! Алька с самого Сталинграда была, считай, вдовой. И за эту надеждочку он так себя ненавидел — а справиться с собой не мог, как и до войны с собой справиться не мог: просто увидел, как она вошла в кафе-стекляшку напротив, опрокинула рюмку водки и следом, без закуски, беломорину — и пропал. Она на него, конечно, даже не смотрела — даром что длинный, он был шкет, самый младший в компании, всех слушался, терпел ласковое снисхождение, тянулся изо всех сил, всех обожал — а на ней просто помешался после этой беломорины. А у нее роман с Митькой был, еще со школы. Бешеная любовь.
От этого спирта всех так развезло. Хуже всех было папе: только он увидел своего мальчика дорогого, только что смог к нему прикоснуться — и опять его на фронт отправлять, не понять куда теперь, в Румынию — какая Румыния, о чем вы? Румыны шумною толпою. Господи. Волосы отросли у него.
От этого спирта всех так развезло. Хуже всех… Аля отупела от тоски, не могла больше ни о чем думать, кроме одного: надо Гелику отдать рукопись, отдать, отдать, потому что она не может ее больше у себя держать, потому что сил нет бояться, и Митька-Митька, зачем этот идиотский предсмертный подарок, даже два подарка, от одного избавилась, так этот остался — и здесь ты меня не пожалел. От вчерашних слез распухли веки, глаза сами закрывались. Как же спать хочется, охохо.
От этого спирта… Эрлих вдруг запоздало обиделся на Гелика — зачем тот с утра обругал венок футур-сонетов? Тоже мне фу-ты-ну-ты-футурист. Хоть бы сам когда хоть что-то из начатого довел до конца, одни наброски, певец огрызков. Лишь бы сказать что-нибудь такое свое высокомерное, этим тоном своим — отвратительно. Капитоша припомнила всех покойников — а плакать ей было с утра запрещено, поэтому сидела, набухнув невылитыми слезами, как квочка. Или как почка. Мара, бедная, смотрела на Колю жадно, с тоской: четыре дня они не вылезали из постели, слиплись телами, потом встали и пошли на Кировскую — а зачем?! Черт бы с ним, с этим Новым годом, завтра ему уезжать, а ты сиди тут и умирай, пряжка эта тяжелая, мученье. Зачем это все? А не пойти на Новый год на Кировскую… — нельзя, жизнь кончится.
Грязным новогодним утром Гелик влез на подоконник на кухне и единым духом прочел рукопись. И застыл на этом подоконнике, скрючившись. Аля холодно сказала ему: забери и сделай, что хочешь. Я ее выкинуть не могу и держать у себя не могу. Хочешь — сам выкини.
Никогда в жизни она с ним так холодно не говорила.
…перед самой войной, когда Гелик оставил их у себя в комнате, а сам убежал к Ленке в скверик целоваться, а они все — Сашка Бутягин, Коля Богданов, Эрлих и Митюшка — сидели там у него, а Михдих дрых в соседней проходной гостиной, и они не могли выйти и поэтому пили теплую водку и закусывали остывшим бульоном с рисом, исписали полтетради какой-то такой пакостной похабщиной, что самим потом было совестно перечитывать — вот тогда Митя втихаря начал писать эту свою поэму, написал большую часть и спрятал у Гелика в комнате — у себя, конечно, не мог: жил с отцом, мачехой и сестренкой в одной комнатенке, и бабы эти беспрестанно убирали, вычищали углы — куда там что-то прятать? Мачеха его, Варвара Ерофеевна, суровейшая баба — если б нашла… ох, представить жутко. А у Гелика все равно такой бардак, что никто никогда не найдет. Там был случай — однажды Капитоша нечаянно вымела из-под дивана вместе с мусором какой-то стишок, то ли Гелика, то ли Эрлиха, то ли вообще какую-то северянинскую адъютантессу-грезэрку, вымела и выкинула, Гелик на нее страшно наорал, и с тех пор она к нему в комнату не совалась. Три года тетрадочка прожила за печкой. Потом Митя приехал и отдал ее Але. Он вообще ее измучил в этот свой последний приезд. Каждую минуту она говорила ему: не надо! Не надо стишки твои идиотские сохранять, давай их сожжем, не надо хамить в институте — я сама виновата, что посеяла карточки (это да, она хороша была — выронила продуктовые карточки из томика Блока), никто не обязан мне их восстанавливать (он орал, как бешеный: потеряла — и что ей теперь, подохнуть, что ли, будьте вы прокляты!?); не надо орать все время, не надо бить рожу комдиву твоему, не надо, не трогай меня, мне нельзя сейчас, не пей так много, оставь нам чуть-чуть спирта… Разве хоть что-то из этого он услышал? Хоть что-то выполнил?!
Митька был как с картинки: светлый кудрявый мальчик, голубоглазый. И правда, иногда бешеный — глаза наливались кровью, он свирепел в один миг, так же быстро отходил, пил не пьянея, однажды на крыше бутылку водки уговорил, хренов Долохов, хохмил, танцевал — и главное, был в нем этот мужской шарм, так умел к девочке подойти, так посмотреть… Все девочки его были — из нашей школы и вообще — не счесть. И девочки-то все отборные, статные — даром что сам он ростом не вышел и коренастый. Короче, донжуан. А потом влюбился — странно, Алька-то и красавицей никогда не была: маленькая — он совсем не таких любил — стриженая, вся в своих книжках, вечно с беломориной, очень гордая. А вот влюбился — и тоже бешено, как он все делал, и не успокоился, пока не добился ее.
Что творилось у него в голове, у дружка моего любимого, у красавца Митьки? Как у него рука поднялась записать это? Главное — никогда не читал ничего путем, в школе Некрасова ответить не мог, позорился у доски — а тут поперло из него какое-то именно что некрасовское причитание… не то озверение: «Сдох бы, проклятый, нет сил уже ждать. Жаль не смогли в восемнадцатом вздернуть, сделаем это в сороковом!» Живи теперь с этой бомбой на руках. Стихи чудовищные. «Нет сил уже ждать»! Впрочем, писать он никогда не умел.