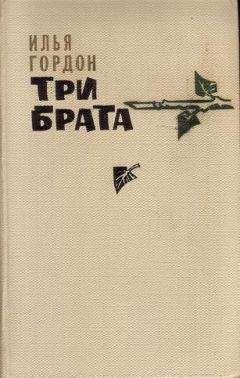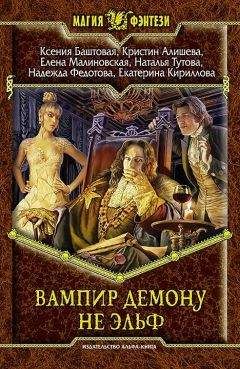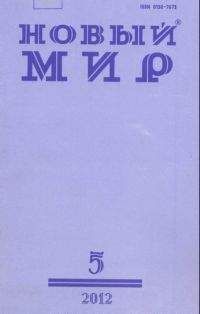Михаило Лалич - Избранное
— Пойдем поглядим, как их будут судить.
— Почестней, чем они нас.
— Хочу наконец и я это видеть.
— А я не хочу, устал.
Поднимаются и другие. Наступает тишина. Смотрю им вслед, а мне кажется, будто я взбираюсь на гору Хаджи Байрамле. Черный и Видо спорят, в какой стороне Левкохори, спорят долго, а где-то внизу шумит на холостом ходу водяная мельница. А они все спорят и говорят, говорят… Поднимаю голову: молодые парни несут гробы. Черный, Михаил и я идем за ними на кладбище. На могилах стоят глазурованные глиняные кувшины с желтыми узорами и зелеными цветочками. В каждом вода, чтобы мертвый не испытывал жажды. Пока поп в рясе неторопливо и важно талдычит бесконечные молитвы, иду в церковь. С десяток святых, в основном из одного клана, ни дать ни взять президиум, что сам себя выбирает, теснятся на иконостасе около женского лика с младенцем. Кое-кто обозначен именем, прочие, менее важные, остались безымянными: кто знает, кто они и как сюда примазались?
Спускаюсь в церковные подвалы, где в прохладе почиют выкопанные из могил кости. Классовость и тут строго разграничена. Одни кости уложены в гробы из мореного дуба, окованные серебром или металлом, другие — в простые, некрашеные, сколоченные из еловых досок, с замками и без оных. Кости бедноты, сваленные в потемневшие худые мешки, желтеют сквозь дыры. В нишах и двух углах высятся груды костей семейств, которыми уже никто не интересуется.
Выхожу. Гробы стоят у могил. Оратор пронзительным голосом отдает последнюю дань погибшим. Каждая его вторая фраза начинается со слова «свобода» — я боюсь, как бы мне не набило оскомину это слово, уж слишком он им злоупотребляет. Подобно попу, он затянул свое выступление и, кажется, даже перещеголяет попа. Упоминая фашистов из Стефанины, он грозит кулаком. Я что-то не видел его, когда мы бились там с фашистами. Потом он перечисляет имена и подвиги убитых греков и русских. Серба Душко Вилича он оставляет для пущего эффекта под конец. За это я сразу все ему прощаю.
На обратном пути кое-кто останавливается у источника и заводит разговоры с девушками и накрепко к ним прилипает. Удивляюсь, как им не стыдно: каждый шов у них просит каши, заплата сидит на заплате. А Черный опять находит окольную дорожку. Вуйо еще не вернулся с суда. Григорий никак не может расстаться с пулеметом. Перед школой, на смятой траве, почти никого нет, вскоре расходятся и последние. Остаются лишь чужаки — а это я. Расстилаю одеяло на корни акации и вытягиваюсь. Неважно, что бугры, да и непривычно без них. Какое-то время сплю без сновидений, потом мне начинает досаждать пес из сожженного селения: бежит на грех лапах за нами, перегонит и давай выть. Кажется, я просыпаюсь, открываю глаза: нет ни табачного поля, ни задымленных печных труб, не пахнет горелым, а пес продолжает выть. Поднимаю голову, нигде его не видно. Наверное, заперт, голодный: успокоится ненадолго и опять затягивает ту же песню.
Вернулся Вуйо. На суде не обошлось и без смеха, рассказывает он, но над чем смеялись — толком не понял. Женщины первыми развязали языки — жаловались, кто что сделал, а за ними и мужчины. Каждый высказал в глаза, что думал. Так и разобрались.
— И что же с ними будет?
— Кой-кого уже повели в овраг.
— А остальных?
— Наверно, возьмут в батальон: надо как-то его латать… Тебе что, не нравится?
— Мне многое не нравится. Уж очень просто стало быть солдатом! Беги туда, и не знаешь куда, только бы вместе. Одних хоронишь с воинскими почестями, других расстреливаешь с издевкой — и все дела!
— А что бы ты хотел?
— Так делают и те. Ведь это глупо!
— Глупо — не глупо, а это война, братец ты мой!
Приходит Черный и приносит слив. Угощает. Я не хочу брать, а он удивляется, все, мол, из рук вырывают, а ты отказываешься. Запах вареного мяса вызывает звяканье котелков и ложек. Я получаю свой обед и съедаю его. В овраге гремит залп, за ним отдельные выстрелы «милосердия». Мы отдыхаем, чиним одежду, закладываем дыры на подметках. И когда в три часа становимся в колонну, выглядим почти прилично. Греки и русские заводят песню, нас провожают пожеланиями: «Счастливого пути!»
Дорога идет вниз и снова поднимается. Со стороны Яницы и Кердзилии подувает ветерок. Проходим километров десять, и нас встречает блеском стекол в лучах заходящего солнца Стефанина. В колонне с ненавистью рычат:
— Последний раз блестишь!
Растянувшись в цепь, в напряженной тишине перебираемся от межи к меже. У околицы начинаем постреливать, чтоб вызвать ответный огонь и определить, где неприятель. Никто не отвечает. Фашисты убежали, и село напоминает обессилевшее животное, которое готово ластиться, да не знает как.
— Спалить все! Спалить, фотия! — кричат греки и предлагают это сделать нам.
— Зачем палить? — кричу я. — Это не дома фашистов.
— А как они сжигают наши? — спрашивают.
— Ты чего вмешиваешься? — возмущается Черный.
— Нынче у него мозги набекрень, — замечает Вуйо. — Изображает из себя ангела.
— Есть у них кому сказать, что делать, — говорит Черный.
— И следует все сжечь, — кипятится Вуйо. — Пусть запомнят, как убивать раненых на Янице.
Я молчу, пусть запомнят, твержу про себя, нет тут места ангелам. Давно мы сталкиваемся со злом, вот и заразились и не отстает оно от нас ни на шаг. У реки копошатся люди, с опозданием прикрывают хворостом добро. Тут же подоспевают заметившие это и обнаруживают ямы. Начинается драка из-за свернутого в рулон ковра…
Дымится уже в разных местах, слышится потрескивание огня, по кровлям гуляет красный петух. От жара и огня лопаются стекла, языки пламени лижут печные трубы, которые быстро покрываются копотью.
В гору колонна двинулась с шумом и гамом. На плечах тюки полотна из магазина, одеяла и плащи. Если спросишь, зачем это, скажут: для госпиталя. Дай боже, чтобы госпиталь получил половину. В руках горшки с медом. По дороге мед выгребают пятерней, как лопаткой штукатура, а пустую посудину запускают вдоль откоса в пропасть. Останавливаемся на привал. Кто-то забренчал на тамбурине, и тут же закружилось коло.
Держатся липкими от меда руками, а на спине покачивается добыча.
Прощай, зеленая земля
I
С подножья Кавалариса, где дневал наш батальон, мы движемся на юг по извилистым отрогам Кердзилии. Безлунная ночь освещает нам дорогу фиалковой пылью и звездными искрами. В воздухе пахнет то горными травами, то увядшим от долгой суши папоротником, то морем, лавром и вереском с залива Орфана. В стороне, точно черный стог, исколотый рогами и вилами космоса, осталась Яница. Южнее темнеет громада с вытянувшимся далеко в сторону отрогом, видимо Трикомба. Столько раз ее поминали, и все получалось, будто она некое чудовище, змей-горыныч, будто нет ее горше. Но Трикомба мне не кажется страшной. Мы как-то в спешке через нее вроде бы уже переваливали, когда нужно было обойти Струмицу. В ту пору не было времени толком ее разглядеть, потому она и осталась в нашей памяти зачарованным царством из сказки. И вот сейчас, на прощанье, вижу ее издалека в темноте лучше, чем среди бела дня, когда мы карабкались по ней, обливаясь потом.
Возле Папарахии выходим на шоссе, что ведет на Стефанину. Но поскольку совесть у нас нечиста, сворачиваем на юго-запад, чтобы уйти от причитаний и запаха гари сожженного села. Пока спускаемся среди виноградников в равнину, ощущаем крепкий дух табачных полей Аретузы. Мучаюсь и никак не могу вспомнить, о чем говорит мне это имя: об Артемиде… Сиракузах… источнике прозрачной воды и о любви с таинственным сиянием…
Мурджинос напоминает: нимфа Аретуза, в которую смертельно влюбился Алфей, сын Океана и Тефии, убежала от него на какой-то остров близ Сицилии, где обернулась источником. Алфей же превратился в реку, нырнул в море и, вынырнув на острове, соединил свои воды с ней.
— В общем, — заканчивает Мурджинос, — поэтическое объяснение движения вод и подземных рек.
Оборачиваюсь, чтобы посмотреть на село. Нигде ни огонька, вижу только белесое пятно. Может, это и не село, а игра ветвей и ночного неба?
Какое-то время идем по шоссе, на Врасну. Справа к нам придвинулся берег реки с деревьями. Оттуда, через жнивье, время от времени тянет болотом и гнилью.
— Что-то далеко мы на юг подаемся, — замечает Стевица.
— Не волнуйся, — говорит Черный, — они знают!
— Не сомневаюсь, что знают, но есть и другое задание. Не люблю сразу браться за два дела. Это палка о двух концах. Наверняка запоздаем.
— Не можем мы опоздать, — возражает Черный. — Сын да дочь — день да ночь.
— Там у них ночью тихо, а днем лихо!
— Если до сих пор остались живы, переживут еще два дня.
— Если б ты знал, до чего длинный может быть один день!